Философия Платона кратко
Жизнь Платона
Платон родился в Афинах, его настоящее имя – Аристокл. Платон («широкоплечий») – прозвище, которому он обязан своим мощным торсом. Философ происходил из знатного рода, получил хорошее образование, в возрасте около 20 лет стал учеником Сократа. Сначала Платон готовил себя к политической деятельности, после смерти своего учителя, он покинул Афины и много путешествовал, главным образом, по Италии. Разочаровавшись в политике и чуть не попав в рабство, Платон возвращается в Афины, где и создает свою знаменитую школу – Академию (она располагается в роще, посаженной в честь греческого героя Академа), которая просуществовала более 900 лет. Обучали здесь не только философии и политике, но и геометрии, астрономии, географии, ботанике, каждый день проводились гимнастические занятия. Обучение основывалось на лекциях, дискуссиях и совместных беседах. Почти все произведения, дошедшие до нас, написаны в форме диалога, главным персонажем которого является Сократ, выражающий взгляды самого Платона.
Основные философские труды Платона
«Апология Сократа», «Менон», «Пир», «Федр», «Парменид», «Государство», «Законы».
Философия Платона
Основным вопросом досократовской философии была разработка натурфилософии, проблема поиска первоначала, попытка объяснить происхождение и существование мира. Предшествующие философы понимали природу и космос как мир вещей видимых и чувственно воспринимаемых, но так и не смогли объяснить мир с помощью причин, в основе которых лежат только «стихии» или их свойства (вода, воздух, огонь, земля, горячее, холодное, разряжение и т.п.).
Заслуга Платона заключается в том, что он вносит новый исключительно рациональный взгляд на объяснение и познание мира, приходит к открытию другой реальности – сверхчувственного, надфизического, умопостигаемого пространства. Это приводит к пониманию двух планов бытия: феноменального, видимого, и невидимого, метафизического, улавливаемого исключительно интеллектом; тем самым Платон впервые подчеркивает самоценность идеального.
С этих пор происходит размежевание философов на материалистов, для которых истинным бытием является материальный, чувственно воспринимаемый мир (линия Демокрита), и идеалистов, для которых истинное бытие – нематериальный, сверхчувственный, надфизический, умопостигаемый мир (линия Платона).
Философия Платона носит характер объективного идеализма, когда за первооснову сущего принимается безличный универсальный дух, надиндивидуальное сознание.
Теория идей
Мир идей Платона
Истинные причины вещей Платон видит не в физической реальности, а в умопостигаемом мире и называет их «идеями», или «эйдосами». Вещи материального мира могут меняться, рождаются и умирают, а вот их причины должны быть вечными и неизменными, должны выражать сущность вещей. Главный тезис Платона заключается в том, что «…вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть».
Идеи представляют собой всеобщее, в отличие от единичных вещей – и только всеобщее, по мнению Платона, достойно познания. Этот принцип распространяется на все предметы исследования, но в своих диалогах Платон большое внимание уделяет рассмотрению сущности прекрасного. В диалоге «Гиппий Больший» описан спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения Платона, и софистом Гиппием, который изображен простоватым, даже глуповатым человеком. На вопрос: «Что такое прекрасное?», Гиппий приводит первый пришедший на ум частный случай и отвечает, что это прекрасная девушка. Сократ говорит, что тогда надо признать прекрасным и прекрасного коня, и прекрасную лиру и даже прекрасный горшок, но все эти вещи прекрасны лишь в относительном смысле. «Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, – и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание». Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, никому и нигде не могло бы показаться безобразным», о том, «что есть прекрасное для всех и всегда». Понятое в этом смысле прекрасное и есть идея, или вид, или эйдос.
Этот принцип распространяется на все предметы исследования, но в своих диалогах Платон большое внимание уделяет рассмотрению сущности прекрасного. В диалоге «Гиппий Больший» описан спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения Платона, и софистом Гиппием, который изображен простоватым, даже глуповатым человеком. На вопрос: «Что такое прекрасное?», Гиппий приводит первый пришедший на ум частный случай и отвечает, что это прекрасная девушка. Сократ говорит, что тогда надо признать прекрасным и прекрасного коня, и прекрасную лиру и даже прекрасный горшок, но все эти вещи прекрасны лишь в относительном смысле. «Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, – и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание». Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, никому и нигде не могло бы показаться безобразным», о том, «что есть прекрасное для всех и всегда». Понятое в этом смысле прекрасное и есть идея, или вид, или эйдос.
Можно сказать, что идея – сверхчувственная причина, образец, цель и прообраз всех вещей, источник их реальности в этом мире. Платон пишет: «…идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в уподоблении им».
Таким образом, можно выделить основные признаки идей:
- вечность
- неизменность
- объективность
- независимость от чувств
- независимость от условий пространства и времени
Структура идеального мира.
Платон понимает мир идей как иерархически организованную систему, в которой идеи отличаются друг от друга степенью общности. Идеи нижнего яруса – в него входят идеи естественных, природных вещей, идеи физических явлений, идеи математических формул – подчинены более высоким идеям. Высшими и более ценными идеями являются те, которые призваны объяснить человеческое бытие – идеи прекрасного, истины, справедливости. На вершине иерархии находится идея Блага, которая является условием всех остальных идей и необусловлена никакой другой; это цель, к которой стремятся все вещи и все живые существа. Таким образом, идея Блага (в других источниках Платон её называет «Единым») свидетельствует о единстве мира и его целесообразности.
На вершине иерархии находится идея Блага, которая является условием всех остальных идей и необусловлена никакой другой; это цель, к которой стремятся все вещи и все живые существа. Таким образом, идея Блага (в других источниках Платон её называет «Единым») свидетельствует о единстве мира и его целесообразности.
Мир идей и мир вещей
Мир идей, по Платону, – мир истинносущего бытия. Ему противопоставляется мир небытия – это материя, беспредельное начало и условие пространственного обособления множественности вещей. Оба эти начала одинаково необходимы для существования мира вещей, но первенство отдается миру идей: не будь идей, не было бы и материи. Мир же вещей, чувственный мир, есть порождение мира идей и мира материи, то есть бытия и небытия. Таким разделением Платон подчеркивает, что сфера идеального, духовного имеет самостоятельную ценность.
Каждая вещь, будучи причастна к миру идей, есть подобие идеи с её вечностью и неизменностью, а материи вещь «обязана» своей делимостью и обособленностью. Таким образом, мир чувственных вещей соединяет в себе две противопо-ложности и находится в области становления и развития.
Таким образом, мир чувственных вещей соединяет в себе две противопо-ложности и находится в области становления и развития.
Идея как понятие. Помимо онтологического смысла, идея Платона рассматривается и в плане познания: идея есть и бытие, и мысль о нем, а значит соответствующее бытию понятие о нем. В этом гносеологическом смысле идея Платона есть общее, или родовое, понятие о сущности мыслимого предмета. Таким образом, он затрагивает важную философскую проблему формирования общих понятий, которые выражают сущность вещей.
Диалектика Платона.
В своих трудах Платон диалектику называет наукой о сущем. Развивая диалектические идеи Сократа, он понимает диалектику как соединение противоположностей, и превращает её в универсальный философский метод.
В деятельности активной мысли, лишенной чувственного восприятия, Платон выделяет «восходящий» и «нисходящий» пути. «Восхождение» заключается в том, чтобы двигаться вверх от идеи к идее, вплоть до самой высшей, отыскивая единое во многом. В диалоге «Федр» он рассматривает это как обобщающую «…способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно…». Коснувшись этого единого начала, ум начинает двигаться «нисходящим» путем. Он представляет собой способность все разделять на виды, идя от более общих к частным идеям. Платон пишет: «…это, наоборот, способность разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров…». Эти процессы Платон и называет «диалектикой», а философ, по определению, есть «диалектик».
В диалоге «Федр» он рассматривает это как обобщающую «…способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно…». Коснувшись этого единого начала, ум начинает двигаться «нисходящим» путем. Он представляет собой способность все разделять на виды, идя от более общих к частным идеям. Платон пишет: «…это, наоборот, способность разделять все на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров…». Эти процессы Платон и называет «диалектикой», а философ, по определению, есть «диалектик».
Платоновская диалектика охватывает различные сферы: бытия и небытия, тождественного и иного, покоя и движения, единого и многого. В своем диалоге «Парменид» Платон вы-ступает против дуализма идеи и вещи и доказывает, что если идеи вещей отделены от самих вещей, то вещь, не содержащая в себе никакой идеи самой себя, не может содержать никаких признаков и свойств, то есть перестанет быть самой собой. Кроме того, он рассматривает принцип идеи как какое бы то ни было одно, а не только как сверхчувственное единое, а принцип материи как какое бы то ни было иное в сравнении с одним, а не только как материальный чувственный мир. Таким образом, диалектика одного и иного оформляется у Платона в предельно обобщенную диалектику идеи и материи.
Кроме того, он рассматривает принцип идеи как какое бы то ни было одно, а не только как сверхчувственное единое, а принцип материи как какое бы то ни было иное в сравнении с одним, а не только как материальный чувственный мир. Таким образом, диалектика одного и иного оформляется у Платона в предельно обобщенную диалектику идеи и материи.
Теория познания Платона
Платон продолжает начатые его предшественниками размышления о природе знания и разрабатывает собственную теорию познания. Он определяет место философии в познании, которая находится между полным знанием и незнанием. По его мнению, философия как любовь к мудрости невозможна ни для того, кто уже обладает истинным знанием (боги), ни для того, кто ничего не знает. Согласно Платону, философ – тот, кто стремится восходить от менее совершенного знания к более совершенному.
При разработке вопроса о знании и его видах Платон исходит из того, что виды знания должны соответствовать видам, или сферам, бытия. В диалоге «Государство» он разделяет знание на чувственное и интеллектуальное, каждое из которых, в свою очередь, делится на два вида.
Интеллектуальное знание доступно лишь тому, кто любит созерцать истину, и делится на мышление и рассудок. Под мышлением Платон понимает деятельность ума, непосредственно созерцающую интеллектуальные предметы. В сфере рассудка познающий тоже пользуется умом, но для того, чтобы понимать чувственные вещи как образы. Интеллектуальный вид знания – это познавательная деятельность людей, которые рассудком созерцают сущее. Таким образом, чувственные вещи постигаются посредством мнения, и по отношению к ним знание невозможно. Посредством знания постигаются лишь идеи, и только в отношении них возможно знание.
В диалоге «Менон» Платон развивает учение о припоминании, отвечая на вопрос о том, каким образом мы знаем то, что знаем, или как познавать то, чего не знаем, ибо мы должны иметь предварительное знание о том, что собираемся познавать.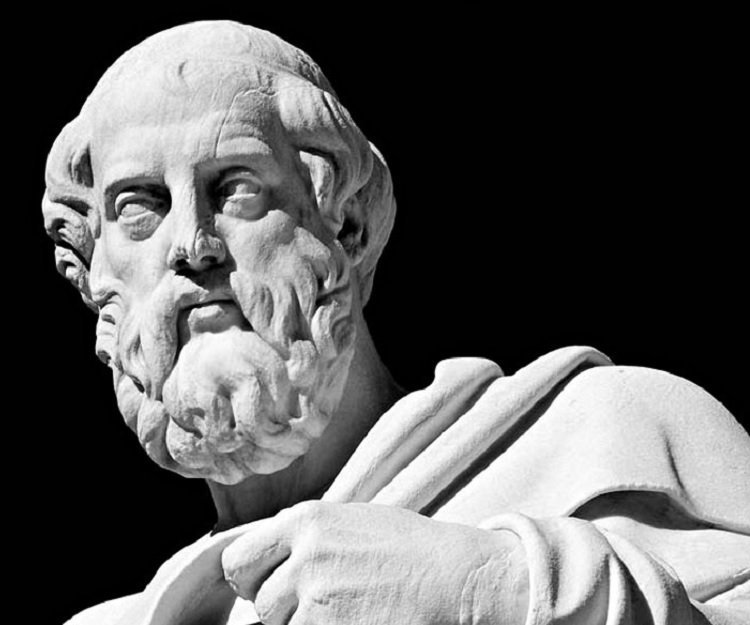 Диалог между Сократом и необразованным рабом приводит к тому, что Сократ, задавая ему наводящие вопросы, открывает в рабе способность отвлечься от мира явлений и возвысится до абстрактных математических «идей». Это означает, что душа познает всегда, так как она бессмертна, а, соприкоснувшись с чувственным миром, начинает припоминать уже известные ей сущности вещей.
Диалог между Сократом и необразованным рабом приводит к тому, что Сократ, задавая ему наводящие вопросы, открывает в рабе способность отвлечься от мира явлений и возвысится до абстрактных математических «идей». Это означает, что душа познает всегда, так как она бессмертна, а, соприкоснувшись с чувственным миром, начинает припоминать уже известные ей сущности вещей.
Учение Платона об идеальном государстве
Платон уделяет большое внимание развитию взглядов на общество и государство. Он создает теорию идеального государства, принципы которого подтверждены историей, но остаются неосуществимыми до конца как любой идеал.
Платон считает, что государство возникает тогда, когда человек не может удовлетворить самостоятельно свои потребности, и нуждается в помощи других. Философ пишет: «Государство возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом». Человеку, прежде всего, необходимы пища, одежда, жилье и услуги тех, кто это производит и поставляет; затем люди нуж-даются в защите и охране и, наконец, в тех, кто умеет практически управлять.
В таком принципе разделения труда Платон видит фундамент всего современного ему общественного и государственного устройства. Являясь основным принципом построения государства, разделение труда также лежит в основе разделения общества на различные сословия:
- 1. крестьяне, ремесленники, купцы
- 2. стражи
- 3. правители
Но для Платона важным является не только разделение, основанное на профессиональных особенностях, но и нравственные качества, присущие соответствующим разрядам граждан государства. В этой связи он выделяет добродетели, или доблести совершенного государства:
1. Первый класс образован из людей, у которых преобладает вожделеющая часть души, то есть наиболее элементарная, поэтому они должны поддерживать дисциплину желаний и наслаждений, обладать добродетелью умеренности.
2. У людей второго сословия преобладает волевая часть души, их профессия требует особого воспитания и специальных знаний, поэтому главная доблесть воинов-стражей – мужество.
3. Правителями могут быть те, у кого преобладает рациональная часть души, кто способен исполнить свой долг с наибольшим усердием, кто умеет познавать и созерцать Благо, и наделен высшей добродетелью – мудростью. Платон выделяет также четвертую доблесть – справедливость – это гармония, которая воцаряется между тремя другими добродетелями, и реализует её каждый гражданин любого сословия, понимая свое место в обществе и исполняя свое дело наилучшим образом.
Итак, совершенное государство – это когда три разряда граждан составляют гармоничное целое, а управляют государством немногие люди, наделенные мудростью, то есть философы. «Пока в государствах, – говорит Платон, – не будут либо царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино, государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор государствам не избавиться от зол…».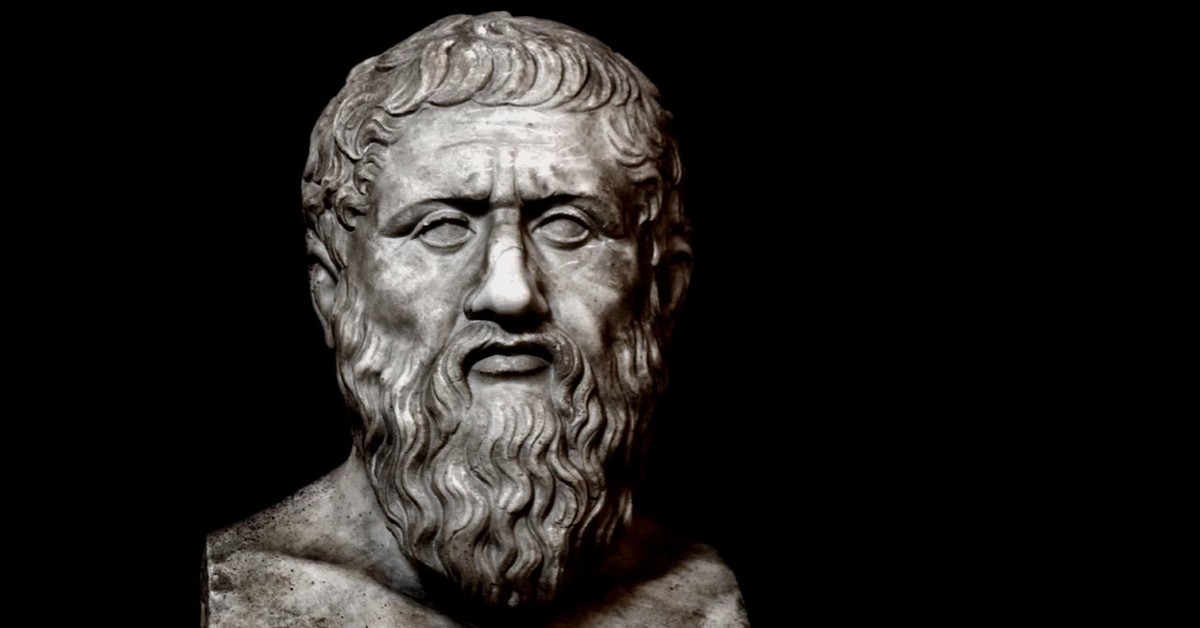
Итак, Платон:
- является основателем объективного идеализма
- впервые подчеркивает самоценность идеального
- создает учение о единстве и целесообразности мира, в основе которого лежит сверхчувственная, умопостигаемая реальность
- вносит рациональный взгляд на объяснение и познание мира
- рассматривает философскую проблему формирования понятий
- превращает диалектику в универсальный философский метод
- создает учение об идеальном государстве, уделяя большое внимание нравственным качествам граждан и правителей
- < Назад
- Вперёд >
|
Проанализировав платоновскую социологию, нетрудно представить его политическую программу. Основные требования Платона можно выразить одной из следующих формул, первая из которых соответствует его идеалистической теории изменения и покоя, вторая — его натурализму. Я полагаю, что из этих требований можно вывести все элементы политической программы Платона. Эти требования основаны на историцизме Платона и их следует соединить с его социологическими учениями, касающимися условий стабильности правящего класса. Я имею в виду следующие основные элементы политической программы Платона: (A) Строгое разделение на классы, то есть правящий класс, состоящий из пастухов и сторожевых псов, следует строго отделить от человеческого стада. (B) Отождествление судьбы государства с судьбой правящего класса. Исключительный интерес к этому классу и его единству. Содействие этому единству, жёсткие правила взращивания этого класса и получения им образования. Надзор за интересами членов правящего класса, коллективизация, обобществление этих интересов. Из этих основных элементов могут быть выведены остальные, например, такие, как: (C) Правящий класс обладает монополией на такие вещи как военная доблесть и выучка, право на ношение оружия и получение любого рода образования. Однако он совершенно устранён из экономической деятельности и, тем более, не должен зарабатывать деньги. (D) Вся интеллектуальная деятельность правящего класса должна подвергаться цензуре. Непрерывно должна вестись пропаганда, формирующая сознание представителей этого класса по единому образцу. Все нововведения в образовании, законодательстве и религии следует предотвращать или подавлять. (E) Государство должно быть самодостаточным. По-моему, эту программу вполне можно назвать тоталитаристской. И конечно же, она основывается на историцистской социологии. Однако разве этим все сказано о политической программе Платона? Разве нет в его программе черт или элементов не тоталитаристских, не основанных на историцизме? А как же присущее Платону страстное желание блага и красоты? А как же его любовь к мудрости и истине? Разве он не требовал, чтобы правили мудрецы, философы? Разве он не надеялся наделить граждан своего государства добродетелью и сделать их счастливыми? И разве он не требовал, чтобы государство основывалось на справедливости? Даже те, кто критикует Платона, верят, что его политическое учение, чем-то напоминающее современный тоталитаризм, явно отличается от него по своим целям: ведь Платон стремился к счастью граждан и к власти справедливости. Несмотря на подобные доводы, я считаю, что в нравственном отношении политическая программа Платона не выходит за рамки тоталитаризма и в своей основе тождественна ему. Я полагаю, что возражения против этой точки зрения основаны на старой и прочно укоренившейся тенденции идеализации Платона. Идеализацией великого идеалиста пронизаны не только интерпретации, но и переводы работ Платона. Режущие ухо замечания Платона, которые не соответствовали взглядам того или иного переводчика на то, что полагается говорить гуманисту, часто или смягчались или понимались неверно. Принимая во внимание всё то, что Платон говорит о Благе, Справедливости и других идеях, мне следует защитить мой тезис о том, что его политические требования чисто тоталитарны и антигуманны. Для того, чтобы провести эту защиту, я прерву свой анализ историцизма и на протяжении следующих четырёх глав сосредоточусь на критическом рассмотрении этических идей Платона и определении их места в его политических требованиях. IЧто мы в действительности имеем в виду, говоря о «справедливости»? Я не думаю, что вербальные вопросы такого рода важны или что на них может быть получен определённый ответ: ведь термины, подобные «справедливости», всегда используются в различных смыслах. Однако я полагаю, что большинство из нас, особенно те, кто привержен гуманизму, говоря о «справедливости», имеют в виду следующее: (а) равное распределение бремени гражданских обязанностей, то есть тех ограничений свободы, которые необходимы в общественной жизни 6.4; (b) равенство граждан перед законом при условии, разумеется, что (с) законы не пристрастны в пользу или против отдельных граждан, групп или классов; (d) справедливый суд и (е) равное распределение преимуществ (а не только бремени), которое может означать для граждан членство в данном государстве. Что Платон подразумевал под «справедливостью»? Я утверждаю, что в «Государстве» он использует термин «справедливо» как синоним слов «то, что в интересах лучшего государства». Что же в интересах этого лучшего государства? Задержать все перемены путём сохранения власти правящего класса и жёсткого деления на классы. Если эта интерпретация верна, то мы должны будем согласиться с тем, что платоновское понимание справедливости обусловило тоталитарный характер его политической программы. Кроме того, мы должны будем также сделать вывод о том, как опасно полагаться на впечатление от одних только слов. Справедливость — центральная тема «Государства». «Государства». Рассуждения, приводящие к этому ответу, будут более детально проанализированы в настоящей главе немного позже. Сейчас мы представим их вкратце. Город-государство основывается на человеческой природе, её нуждах и ограничениях 6.6. «Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен». Из этого Платон заключает, что каждый должен заниматься своим делом, что плотник должен ограничиться плотничеством сапожник — изготовлением обуви. IIОднако, быть может, Платон был прав? Может быть, «справедливость» означает именно то, что он говорит? Я не намерен обсуждать этот вопрос. Если кто-то будет утверждать, что «справедливость» — это неоспоримая власть одного класса, я просто отвечу, что привержен несправедливости. Другими словами, я полагаю, что от слов ничего не зависит. Всё зависит от наших практических требований и от наших предложений по осуществлению политики, которой мы решили придерживаться. Однако, быть может, он прав в другом смысле? Может быть, его идея справедливости соответствует греческому способу использования этого слова? Может быть, под «справедливостью» греки понимали нечто целостное, наподобие «здоровья государства», и, может быть, совершенно неверно и неисторично ожидать, чтобы Платон предвосхитил нашу современную идею справедливости как равенства всех граждан перед законом? На этот вопрос нередко отвечали утвердительно на том основании, что платоновская холистская идея «социальной справедливости» характерна для традиционного греческого подхода, «греческого гения», который «в отличие от римского, не был специфически правовым», напротив, он был «существенно метафизическим» 6.8. Однако, это заявление неверно. На самом деле, греческое использование слова «справедливость» было удивительно похожим на наше современное, то есть индивидуалистическим и эгалитарным. Чтобы это показать, я сошлюсь сначала на самого Платона, который в диалоге «Горгий» (более раннем, чем «Государство») говорит о том, что очень многие рассматривают «справедливость как равенство», причём это понимание согласуется не только с «договором», но и с «самой природой». Затем можно процитировать Аристотеля, другого противника эгалитаризма, который под влиянием платоновского натурализма построил наряду со многими другими концепциями теорию о том, что некоторые люди рождены рабами по природе 6.9. Аристотель менее всех был заинтересован в распространении эгалитаристической и индивидуалистической интерпретации термина «справедливость». И тем не менее, говоря о судье, которого он называет «посредником», Аристотель утверждает, что судья «уравнивает по справедливости». Он говорит нам, что «правосудие — это какая-то середина». Он даже полагает (однако здесь он ошибается), что греческое слово «правосудие» происходит от корня, означающего «дележ пополам». (Этот взгляд, согласно которому «справедливость» означает «равенство в распределении прав и обязанностей граждан», согласуется с платоновской теорией, представленной в «Законах», где он различает два вида равенства в распределении прибыли и почета — «цифровое», или «арифметическое», равенство и «пропорциональное» равенство. В свете этого свидетельства следует, на мой взгляд, сказать, что холистское и антиэгалитарное понимание справедливости в «Государстве» было нововведением. Платон пытался представить тоталитарное правление класса как «справедливое», в то время как большинство людей подразумевало под «справедливостью» нечто прямо противоположное. Этот поразительный вывод влечёт за собой целый ряд вопросов. Почему в «Государстве» Платон заявлял, что справедливость означает неравенство, если в повседневном использовании этот термин означал равенство? По-моему, здесь возможен лишь один правдоподобный ответ: он хотел создать рекламу своему тоталитарному государству, убеждая людей, что это государство «справедливое». Но стоило ли ему предпринимать такую попытку, если важны не слова, а то, что они обозначают? Конечно, стоило: ведь вплоть до настоящего времени Платон ухитряется убеждать читателей в том, что он защищает справедливость — ту самую, к которой они стремятся. Верно и то, что он таким образом посеял сомнения и недоразумения среди эгалитаристов и индивидуалистов, которые под влиянием его авторитета задались вопросом — а не является ли платоновская идея справедливости лучшей и более правильной, чем их собственная? Так как слово «справедливость» отражает настолько важную цель, что многие готовы вынести ради неё все и приложить все свои силы к её достижению, то завербовать эти гуманистические силы или, по крайней мере, парализовать эгалитаризм — достойная задача для того, кто верит в тоталитаризм. Однако осознавал ли Платон, как много значит для людей справедливость? Да, осознавал — ведь в «Государстве» он пишет: «Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то, чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки: это не возбудит в нём гнева… А когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений — либо добиться своего, либо умереть» 6.11. Прочитав это, нельзя усомниться в том, что Платон понимал силу веры и, прежде всего, веры в справедливость. Нельзя усомниться также в том, что «Государство» направлено на то, чтобы извратить эту веру и заменить её противоположной. Учитывая имеющиеся свидетельства, я склонен допустить, что Платон хорошо знал, что делает. Чтобы обосновать эту точку зрения, я представлю читателю ряд аргументов. IIIВероятно, из всех когда-либо написанных работ о справедливости «Государство» — наиболее продуманное произведение. В нём исследуются разнообразные подходы к анализу справедливости, причём так, что мы вынуждены поверить в то, что Платон не упустил ни одной из хорошо известных ему теорий справедливости. В действительности Платон ясно намекает 6.12 на то, что он тщетно пытался обнаружить такую теорию в современных ему концепциях и что поэтому требуется новая, самостоятельная попытка. Однако в обзоре и обсуждении современных ему теорий Платон ни разу не упоминает точку зрения, в соответствии с которой справедливость — это равенство перед законом («isonomy»). Чтобы в полной мере оценить, к чему приводило глухое молчание Платона по этому вопросу, следует прежде всего уяснить, что эгалитарное движение, каким его знал Платон, представляло собой всё, что он ненавидел, и что его собственная теория, разработанная в «Государстве» и более поздних работах, была в значительной степени ответом на мощный вызов нового эгалитаризма и гуманизма. Чтобы показать это, я рассмотрю основные принципы гуманистического движения и противопоставлю их соответствующим принципам платоновского тоталитаризма. Гуманистическая теория справедливости выдвигает три основных требования или предложения (proposals), а именно: (а) собственно принцип эгалитаризма, то есть предложение устранить «естественные» привилегии, (b) общий принцип индивидуализма и (с) принцип, в соответствии с которым задача и цель государства — защитить свободу своих граждан. Каждому из этих политических требований, или предложений, соответствует прямо противоположный принцип платонизма, а именно: (а1) принцип естественных привилегий, (b1) общий принцип холизма или коллективизма и (с 1) принцип, в соответствии с которым задача и цель индивида — сохранить и усилить стабильность государства. IVСобственно эгалитаризм — это требование, чтобы к гражданам государства относились непредвзято. На тех, кто даёт гражданам законы, не должны влиять такие вещи, как рождение, родственные связи и богатство граждан данного государства. Иначе говоря, закон не признает каких бы то ни было «естественных» привилегий, хотя граждане могут наделить определёнными привилегиями тех, кому они доверяют. Этот эгалитаристский принцип прекрасно сформулировал Перикл за несколько лет до рождения Платона в речи, сохранённой для нас Фукидидом 6.16. Более полно мы процитируем её в главе 10, но два предложения следует привести сейчас: «Законы наши, — говорит Перикл, — в частных делах всем дают нам равные возможности. Уважением у нас каждый пользуется по заслугам, и ни поддержка приверженцев не приносит больше успеха, чем собственная доблесть, ни скромность звания не мешает бедняку оказать услугу государству…» Эти фразы выражают некоторые фундаментальные цели великого движения за равноправие, которое, как мы видели, не избегало даже критики рабства. Платоновский принцип справедливости прямо противоположен всему этому. Он требовал естественных привилегий естественным лидерам. Но как же он опровергал принцип эгалитаризма? И как же он утверждал свои собственные требования? Из главы 5 мы помним, что некоторые хорошо известные эгалитаристские требования выражены с помощью впечатляющего, но внушающего сомнения языка «естественных прав» и что некоторые представители эгалитаризма защищали выдвигаемые ими требования, указывая на «естественное», то есть биологическое равенство людей. Мы показали неуместность этого аргумента: действительно, в некоторых важных отношениях люди равны, в других — неравны, причём из этого, как и из любого другого факта нельзя вывести нормативные требования. Платон быстро понял, что натурализм — слабое место в эгалитаристском учении, и извлек из этой слабости максимальную выгоду. Сказать людям, что они равны — значит затронуть их чувства. Однако это обращение к чувству — ничто по сравнению с тем, что человек испытывает, когда пропаганда внушает ему, что он превосходит других, а другие ему подчинены. Верно ли, что вы по природе равны вашим слугам, рабам, чернорабочему, который ничуть не лучше животного? Какой смешной вопрос! По-видимому, Платон первым оценил возможности такой реакции и к утверждению о естественном равенстве стал относиться с презрением и насмешкой. Вот почему он так старался приписать натуралистические доводы даже тем из своих противников, кто их не использовал. Пародируя, например, речь Перикла в «Менексене», он настаивает на взаимосвязи утверждений о равенстве перед законом и естественном равенстве: «В основе такого общественного устройства лежит равенство по рождению, — иронизирует он. Позже, в «Законах», Платон резюмирует свой ответ эгалитаристам в следующем утверждении: «Для неравных равное стало бы неравным» 6.20. Аристотель же развил это понимание так: «Справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных». Это утверждение фиксирует обычное обвинение, предъявляемое эгалитаризму, — обвинение, состоящее в том, что равенство было бы превосходным, если бы только люди были равны, однако оно, очевидно, невозможно, так как они не равны, а потому и не могут быть уравнены. Это реалистическое, на первый взгляд, обвинение в действительности совершенно нереалистично, так как политические привилегии никогда не основываются на природных качественных различиях. Резюмируя, можно сказать, что Платон никогда не преуменьшал значения эгалитаристской теории, которую поддерживали такие люди, как Перикл, однако в «Государстве» он её совершенно не затронул — его нападки на эту теорию не были прямыми и открытыми. Как же Платон пытался утвердить свой собственный антиэгалитаризм, свой принцип естественной привилегии? В «Государстве» он предложил три разных довода, однако два из них вряд ли могут считаться серьёзными аргументами. Первый 6.22 — это вызывающее удивление замечание о том, что поскольку уже рассмотрены три добродетели государства, то оставшаяся, четвёртая, то есть «заниматься каждому своим делом», должна быть названа «справедливостью». — «Нет, — отвечает его собеседник Главкон, — именно на это». — «Потому что это справедливо?» — «Да». — «Значит, и на этом примере можно убедиться, что справедливость состоит в том, чтобы каждый имел своё и исполнял тоже свое». Таким образом утверждается, что, в соответствии с нашими обычными представлениями о справедливости, «иметь и исполнять свое» является принципом справедливого суда. Единственная цель этого второго аргумента состоит в том, чтобы внушить читателю, что «справедливость» в обыденном понимании требует, чтобы мы держались своего места, так как нам следует всегда удерживать то, что нам принадлежит. Иначе говоря, Платон желает, чтобы читатели построили следующее умозаключение: «Справедливо удерживать и использовать то, что тебе принадлежит. Моё место (или моё занятие) принадлежит мне. Поэтому будет справедливо, если я буду удерживать своё место (или заниматься своим делом)». Этот аргумент так же безупречен, как и следующий: «Справедливо, что некто удерживает и исполняет то, что ему принадлежит. План похищения твоих денег — мой собственный. Поэтому будет справедливо, если я буду придерживаться этого плана и постараюсь его выполнить, то есть украсть твои деньги». Третий и последний из предлагаемых Платоном аргументов более серьезен и предполагает обращение к принципу холизма, или коллективизма. Этот довод связан с принципом, в соответствии с которым целью индивидуума является сохранение стабильности государства, поэтому мы его рассмотрим позже — в разделах V и VI настоящей главы. Однако прежде, чем перейти к этому анализу, я хотел бы привлечь внимание к «предисловию», которое Платон помещает перед описанием исследуемого нами «открытия». Его следует рассмотреть в свете уже сделанных нами наблюдений. С этой точки зрения «длинное предисловие», как называет его сам Платон, оказывается нечем иным, как попыткой подготовить читателя к «открытию справедливости», заставив его поверить в то, что перед ним доказательство, в то время как в действительности критические способности читателя пытаются усыпить с помощью специально для этого изобретённых драматических эффектов. Открыв, что мудрость — это собственная добродетель стражей, а храбрость — помощников, Сократ объявляет о своём намерении совершить ещё одно, последнее усилие и открыть справедливость. «Остаётся рассмотреть 6.24, — говорит он, — ещё два свойства нашего государства: рассудительность и то, ради чего и предпринято всё наше исследование, — справедливость». — «Да, конечно», — отвечает Главкон. Затем Сократ анализирует умеренность, которая, как удаётся выяснить, является единственной собственной добродетелью работников. (Кстати, легко разрешить часто обсуждаемый вопрос о том, отличима ли «справедливость», по Платону, от «рассудительности». Справедливость означает оставаться на своём месте, рассудительность — знать своё место, точнее, быть им довольным. Что же ещё может быть собственной добродетелью работников, набивающих свои животы подобно животным?) Определив рассудительность, Сократ вопрошает: «А оставшийся неразобранным вид… что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это — справедливость». «Теперь, Главкон, — говорит Сократ, — нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она ускользнет, и опять всё будет неясно. Ведь она явно прячется где-то здесь: ты гляди и старайся её заметить, а если увидишь первым, укажи и мне». Главкон, как и читатель, конечно же, ни на что подобное не способен и умоляет Сократа вести его вперёд. «Так следуй, помолившись, вместе со мною», — говорит Сократ. Однако даже Сократу эта тема кажется «непроходимой чащей: кругом темно и трудно хоть что-то разведать. Но всё равно, — говорит он, — надо идти вперёд». И вместо того, чтобы возразить: «Идти вперёд с чем? С результатами нашего исследования, то есть нашего рассуждения? Но ведь мы к нему ещё не приступили. В том, что ты до сих пор говорил, не было ни крупицы смысла», Главкон, а вместе с ним и наивный читатель, смиренно отвечает: «Я так и сделаю, а ты веди меня». После этого Сократ сообщает, что в отличие от нас он «напал на след», и приходит в возбуждение. Сократ ещё довольно долго продолжает восклицать и повторять подобные утверждения, пока его не перебивает Главкон, который, выражая чувства читателя, спрашивает его, что же он нашёл. Когда же Сократ ограничивается ответом: «Мы… не сообразили, что уже тогда мы каким-то образом говорили именно о справедливости», Главкон выражает нетерпение читателя, говоря: «Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать». И лишь тогда Платон предлагает те два «аргумента», о которых я уже говорил. Можно сказать, что последнее замечание Главкона свидетельствует о том, что Платон понимал, зачем потребовалось это «длинное предисловие». По-моему, это просто попытка — и как оказалось, весьма успешная — убаюкать критические способности читателя и посредством эффектных словесных фейерверков отвлечь его внимание от интеллектуальной нищеты этого мастерского фрагмента. VПроблема индивидуализма и коллективизма тесно связана с проблемой равенства и неравенства. Прежде чем приступить к этой теме, сделаем несколько, по-видимому, необходимых замечаний относительно терминологии. Согласно «Оксфордскому словарю», термин «индивидуализм» может быть использован в двух различных смыслах: как нечто противоположное (а) коллективизму и (b) альтруизму. Причём, если для выражения первого смысла существует только одно слово — «индивидуализм», то для выражения второго имеется целый ряд синонимов, например «эгоизм» или «себялюбие». Вот почему в дальнейшем я буду использовать термин «индивидуализм» исключительно в первом смысле, используя слова «эгоизм» и «себялюбие» во всех тех случаях, когда имеется в виду смысл (b). Нам может пригодиться следующая небольшая таблица: (а) Индивидуализм противоположен (а’) Коллективизму (b) Эгоизм противоположен (b’) Альтруизму Эти четыре термина, используемые в кодексах нормативных законов, обозначают определённые установки, требования, решения или предложения-проекты (proposals). Взглянув на нашу табличку, мы поймём, что это не так. Коллективизм не противоположен эгоизму и не тождественен альтруизму или отсутствию себялюбия. Весьма распространён коллективный, или групповой, эгоизм, например, классовый (Платон прекрасно это знал 6.28), а это достаточно ясно показывает, что коллективизм как таковой не противоположен себялюбию. Вместе с тем, антиколлективист, то есть индивидуалист, может одновременно быть альтруистом: может оказаться, что он готов пожертвовать собой, чтобы помочь другим людям. Вероятно, лучший пример такой установки — это Ч. Диккенс. Трудно определить, что в нём сильнее — страстная ненависть к себялюбию или горячий интерес к отдельным людям со всеми их человеческими слабостями, причём эта установка соединена с антипатией не только к тому, что мы теперь называем коллективами 6.29, но даже к подлинной преданности альтруизму, если это альтруизм по отношению к неизвестным группам, а не к конкретным личностям. Далее, интересно, что, согласно Платону и большинству платоников, альтруистический индивидуализм (например, Диккенса) невозможен. По Платону, единственной альтернативой коллективизму является эгоизм. Он просто отождествляет всякий альтруизм с коллективизмом и всякий индивидуализм с эгоизмом. Дело здесь не только в словах: ведь вместо четырёх возможностей Платон различает только две. Это внесло огромную неразбериху в рассуждения по этическим проблемам, что ощущается даже сегодня. Отождествление индивидуализма с эгоизмом вооружает Платона мощным средством как для защиты коллективизма, так и для нападок на индивидуализм. Почему Платон пытался нападать на индивидуализм? Я думаю, он хорошо знал, что делал, когда ополчился против индивидуализма, так как этот подход, вероятно, даже в большей степени, чем эгалитаризм, был оплотом защитников нового гуманистического кредо. В действительности, освобождение личности было великой духовной революцией, приведшей к разрушению родового строя и возникновению демократии. Сверхъестественная социологическая интуиция Платона проявляется в том, как безошибочно он распознает врага, где бы тот ни встретился. Индивидуализм в Древней Греции был составной частью старой интуитивной идеи справедливости. Перикл настаивает на том, чтобы индивидуализм связывали с альтруизмом: «Мы… повинуемся… законам, а из них в особенности тем, которые существуют на пользу обижаемым». Кульминация речи Перикла — это описание молодых афинян, которые смогут, когда вырастут, «приспособиться к занятиям самым многообразным и… добиться для себя независимого состояния». Этот объединённый с альтруизмом индивидуализм стал основой нашей западной цивилизации. Это — ядро христианства («возлюби ближнего своего», — сказано в Священном Писании, а не «возлюби род свой»), а также всех этических учений, получивших развитие в нашей цивилизации и ускорявших её прогресс. Это также и основное практическое учение Канта («всегда относись к другому человеку как к цели, а не как к простому средству достижения своих целей»). Ни одна другая мысль не оказала такого мощного влияния на нравственное развитие человечества. Платон не ошибся, увидев в этом учении врага кастового общества. Недаром именно его он ненавидел больше других современных ему «подрывных» учений. Чтобы это стало ещё яснее, я процитирую два фрагмента из «Законов» 6.32. Их поистине исключительная враждебность по отношению к личности, как мне кажется, явно недооценивается. Первый из них приобрёл известность благодаря ссылке на «Государство», в которой обсуждается предложение, чтобы «общими были жены, дети, все имущество». Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, — глаза, уши, руки, — так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться и огорчаться, а законы по мере сил как можно более объединят государство». Более того, Платон утверждает, что «выше этого, в смысле добродетели, лучше и правильнее никто никогда не сможет установить предела». Он описывает это государство как «божественное», как «модель», «образец» или «подлинник» государства, то есть как его форму или идею. Таким образом, здесь использован тот же подход, что и в «Государстве», но теперь он применён к ситуации, когда Платон потерял надежду воплотить свой политический идеал во всём блеске. Второй фрагмент, тоже из «Законов», ещё более, если только это возможно, откровенен. Следует отметить, что хотя в нём говорится прежде всего о военных походах и военной дисциплине, однако нет сомнения, что тех же самых военных принципов следует, по Платону, придерживаться «с самых ранних лет, и не только в военное, но и в мирное время». Платон утверждает, подобно другим милитаристам, которые симпатизируют тоталитаризму и восхищаются Спартой, что все главные требования военной дисциплины должны господствовать и в мирное время, определяя всю жизнь граждан: не только зрелые граждане (каждый из которых солдат) и дети, но даже животные должны всю жизнь оставаться в состоянии постоянной и полной боевой готовности 6.33. «Самое главное здесь следующее, — пишет он, — никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьёзных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Сильно сказано. Никто никогда не выражал более честно свою враждебность по отношению к личности. Эта ненависть глубоко укоренена в фундаментальном дуализме философии Платона. Личность и её свободу он ненавидит так же сильно, как смену отдельных впечатлений, разнообразие меняющегося мира чувственных вещей. Изложенную по сути своей антигуманистическую и антихристианскую установку Платона постоянно идеализируют. Её считали гуманной, отвергающей себялюбие, альтруистической и христианской. Например, Э. Ингленд 6.35 первый из этих двух фрагментов из «Законов» называет «страстным обличением себялюбия». Примерно то же говорит Э. Баркер, касаясь теории справедливости Платона. Он утверждает, что целью Платона была «замена себялюбия и гражданского разлада гармонией» и что «в учении Платона, таким образом, возрождается былая гармония интересов государства и личности — причём возрождается на новом, более высоком уровне, будучи возвышена до сознательного чувства гармонии». Нетрудно объяснить эти и многие другие утверждения, если вспомнить, что Платон отождествлял индивидуализм и эгоизм: поэтому все платоники полагают, что антииндивидуализм — это то же самое, что и бескорыстие. Такое отождествление — бесспорное достижение антигуманистической пропаганды, надолго (вплоть до настоящего времени) запутавшее рассуждения на этические темы. Следовало бы назвать ещё несколько причин, заставляющих простодушных людей убеждать себя в гуманности намерений Платона. Одна из них состоит в том, что Платон, расчищая почву для своих коллективистских теорий, обычно начинает с максимы или пословицы (имеющей, по-видимому, пифагорейское происхождение): «у друзей все общее» 6.36. Без сомнения, это — возвышенное, превосходное и лишённое себялюбия изречение. Можно ли заподозрить, что рассуждение, начинающееся с такого похвального утверждения, приведёт к совершенно антигуманному заключению? Другая важная причина состоит в том, что в диалогах Платона содержится немало подлинно гуманистических изречений — особенно в диалогах, предшествовавших «Государству», то есть в тех, в которых ещё заметно влияние Сократа. В «Государстве» же развивается новое учение о справедливости, которое не только несовместимо с индивидуализмом, но совершенно ему враждебно. Платон часто намекает на эту теорию, говоря, что лучше страдать от несправедливости, чем её совершать, несмотря на бессмысленность этого изречения с точки зрения развиваемой им коллективистской теории справедливости. Более того, в «Государстве» оппоненты «Сократа» выступают за противоположную теорию, то есть за то, что причинять несправедливость — благое и приятное занятие, а страдать от неё — дурно. Такой цинизм, конечно же, вызовет у гуманистов неприязнь, и когда Платон устами Сократа говорит о своих целях: «Я боюсь, что будет нечестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей» 6.37, то доверчивый читатель убеждается в хороших намерениях Платона и готов следовать за ним повсюду. Заверения Платона приобретают ещё большую силу потому, что за ними, оттеняя их, следуют циничные и себялюбивые речи Фрасимаха, изображённого в виде мерзкого политического авантюриста 6. Не следует, однако, в страхе отшатываться от индивидуалистического пугала в образе Фрасимаха (кстати, его портрет во многом напоминает современные попытки приписать коллективистам отталкивающие черты «большевика») с тем, чтобы впасть в другую форму варварства — более реальную и более опасную в силу её меньшей очевидности. Ведь Платон заменяет учение Фрасимаха о том, что право на стороне сильного, не менее варварским учением о том, что право на стороне всего, что повышает устойчивость и силу государства. Подведём итоги. Платона, в силу его радикального коллективизма, совсем не интересует проблема, которую обычно называют проблемой справедливости, то есть беспристрастная оценка несогласующихся требований отдельных лиц. Не занимает его и то, как индивидуальные требования привести в соответствие с требованиями государства. VIИтак, теперь нам ясно, что гуманистическая этика требует эгалитаристского и индивидуалистского понимания справедливости, однако до сих пор мы ещё не описали гуманистический взгляд на государство как таковое. Мы выяснили также, что платоновская теория государства тоталитарна, однако все ещё не объяснили, как эта теория применяется к этике личности. В этом разделе я попытаюсь решить обе задачи, начав со второй. Прежде всего я проанализирую третий довод Платона, сформулированный при «открытии» справедливости, — довод, о котором до сих пор было сказано лишь вскользь. В этом аргументе мы обнаруживаем (а) социологическое допущение о том, что любое ослабление жёсткой кастовой системы неизбежно приведёт к падению государства, (b) постоянные повторения довода, сводящегося к тому, что все, вредное для государства, несправедливо, и (с) вывод о том, что противоположное справедливо. Согласимся с социологическим допущением (а), потому что сдерживание социальных перемен — платоновский идеал и потому что, говоря «вред», он подразумевает всё, что ведёт к переменам. Вполне вероятно, что социальные перемены могут быть задержаны только в жёсткой кастовой системе. Согласимся и с выводом (с) о том, что несправедливому противостоит справедливое. Теперь посмотрим на (b) — этот пункт наиболее интересен в рассматриваемом платоновском аргументе. Едва взглянув на платоновское доказательство, мы поймём, что над всем ходом его мысли господствуют вопросы: Вредит ли это государству? Сильно вредит или не очень? Он постоянно повторяет, что всё, что угрожает нанести вред государству, порочно с точки зрения морали и поэтому несправедливо. Таким образом, для Платона существует лишь один окончательный критерий — интерес государства. Всё, что ему содействует — благо, добродетель и справедливость. Всё, что ему угрожает — зло, порок и несправедливость. Служащие ему действия нравственны, ставящие его под угрозу — безнравственны. Другими словами, моральный кодекс Платона строго утилитаристский. Это — кодекс коллективистского и политического утилитаризма. Критерий нравственности — интерес государства. Нравственность есть не что иное, как политическая гигиена. Это коллективистская, родовая, тоталитаристская теория морали: «Благо — это то, что в интересах моей группы, или моего рода, или моего государства». Легко понять, что означает такая нравственность в применении к международным отношениям, а именно — то, что государство никогда не ошибается в своих действиях до тех пор, пока оно сильно, что государство, чтобы упрочить себя, имеет право применять насилие не только к своим гражданам, но и нападать на другие государства при условии, что это его не ослабит. С точки зрения тоталитаристской этики и коллективной пользы платоновская теория справедливости безупречна. Оставаться на своём месте — действительно добродетель. Эта гражданская добродетель полностью соответствует дисциплине как воинской добродетели. А эта добродетель, в свою очередь, играет точно такую же роль, какую играет «справедливость» в платоновской системе добродетелей. Ведь винтики огромного механизма государства «добродетельны» в двух случаях. Во-первых, они должны годиться для выполнения своей задачи, то есть быть соответствующего размера, формы, прочности и так далее. Во-вторых, каждый из них должен находиться и удерживаться на своём собственном месте. Первая добродетель, то есть соответствие определённой задаче, приводит к разделению винтиков в зависимости от выполняемых ими функций. Добродетель винтиков, то есть их пригодность, требует, чтобы одни («по природе своей») были велики, другие должны быть прочными, третьи — гладкими. Замечу, что я не сомневаюсь в искренности платоновской приверженности тоталитаризму. Он не признавал компромисса, требуя неоспоримого господства одного класса над остальными, но при этом его идеалом была не максимальная эксплуатация рабочего класса верхами, а устойчивость целого. Однако необходимость ограничить эксплуатацию Платон объясняет чисто утилитаристски, а именно — интересом стабильности правящего класса. Он доказывает, что если стражи захотят слишком многого, они не получат в конечном счёте ничего: «Если страж … не удовольствуется такой умеренной, надёжной и, как мы утверждаем, наилучшей жизнью, но проникнется безрассудным и ребяческим мнением о счастье, которое будет толкать его на то, чтобы присвоить себе силой все достояние государства, он поймёт тогда: Гесиод действительно был мудрецом, говоря, что в каком-то смысле — половина больше целого» 6. Если принять, что третий довод Платона является честным и непротиворечивым, то возникает вопрос, зачем ему понадобилось «длинное предисловие» и два предыдущих аргумента? Зачем это беспокойство? (Разумеется, платоники ответят, что это беспокойство — плод моего воображения. Не исключено. Однако вряд ли можно оправдать иррациональность этих фрагментов.) Я полагаю, ответ состоит в том, что платоновский коллективистский механизм рассуждения вряд ли бы вызвал сочувствие у читателей, если бы предстал перед ними во всей своей скудости и бессмысленности. Платон волновался потому, что он знал мощь и нравственную привлекательность сил, которые он пытался преодолеть, и страшился их. Он не дерзнул бросить им вызов, попытавшись в своих целях склонить их на свою сторону. В пользу тахого понимания говорит то, как Платон видел, а вернее, ненавидел, гуманистическую и рациональную теорию государства — теорию, которая впервые получила развитие при жизни его поколения. Для лучшего понимания этой теории следует использовать язык политических требований и политических предложений-проектов (см. главу 5, раздел III). Иначе говоря, не надо искать ответ на эссенциалистский вопрос: «Что есть государство, какова его истинная природа и каково его действительное значение?» Не надо искать ответ и на историцистский вопрос: «Как произошло государство и в чём источник политического долга?» Мы должны ставить вопрос так: «Что требуется от государства? Что мы предлагаем в качестве законной цели деятельности государства?» А для того, чтобы выяснить, каковы наши основные политические требования, мы можем задаться вопросом: «Почему мы предпочитаем жить в хорошо организованном государстве, а не без государства, то есть в анархии?» Вот что значит задать рациональный вопрос. Именно на этот вопрос должен попытаться ответить социальный технолог, прежде чем он примется строить или перестраивать какой-нибудь политический институт. Ведь он только в том случае решит, соответствует ли тот или иной институт возложенной на него функции, если поймёт, что ему нужно. Если мы сформулируем вопрос именно таким образом, то гуманист может ответить следующее. Я требую, чтобы государство защитило не только меня, но и других. Я требую, чтобы оно защитило свободу — и мою собственную, и всех окружающих людей. Я не хочу жить милостью тех, у кого тяжелее кулаки и кто лучше вооружен. Другими словами, я хочу, чтобы меня защитили от агрессии со стороны других людей. Я хочу, чтобы разграничили агрессию и оборону, и хочу, чтобы оборону поддерживала организованная сила государства. (Это — защита status quo, и предлагаемый принцип означает следующее: status quo не следует менять насильственно, его можно менять только в соответствии с законом, посредством компромисса или с помощью арбитража, естественно, кроме тех случаев, когда отсутствует правовая основа его пересмотра.) Я вполне готов к тому, чтобы государство в некоторой степени ограничило мою свободу действий при условии, что мне гарантируют защиту оставшейся части свободы: ведь я знаю, что некоторое ограничение моей свободы необходимо. Примерно так звучали бы требования гуманиста, эгалитариста, индивидуалиста. Именно эти требования позволяют социальному технологу рационально подходить к политическим проблемам, то есть рассматривать их с точки зрения совершенно ясной и определённой цели. Существует, однако, немало возражений против того, что возможно достаточно ясно и определённо сформулировать цели государства относительно свободы. Говорят, что стоит лишь осознать, что свободу следует ограничить, как рушится принцип свободы, и ответ на вопрос о том, какие ограничения необходимы, а какие произвольны даёт не разум, а авторитет. Изложенный мною взгляд на государство можно назвать «протекционизмом». Этим термином часто называли тенденции, противостоящие свободе. Так, экономист обычно подразумевает под протекционизмом политику смягчения конкуренции тех или иных экономических интересов, моралист — требование, чтобы государственные чиновники установили над гражданами моральную опеку. То, что я называю протекционизмом, не имеет никакого отношения к этим тенденциям и по сути является либеральной теорией. Однако я считаю, что этот термин здесь уместен, так как показывает, что моя теория, будучи либеральной, всё же не провозглашает политики строгого невмешательства (часто, но не всегда верно обозначаемой термином «laissez faire»). Либерализм и вмешательство государства не противоречат друг другу — напротив, свобода, очевидно, невозможна, если её не гарантирует государство 6.42. Так, например, необходим определённый контроль государства над системой образования: ведь иначе отсутствие заботы о детях не позволит детям защитить свою свободу. Сформулированная таким образом протекционистская теория совершенно свободна от историцизма и эссенциализма. В ней не утверждается, что государство образовалось как сообщество личностей с целью их защиты или что на протяжении истории всеми государствами сознательно управляли в соответствии с этой целью. Приведём пример такого перевода. То, что я называю протекционизмом, критиковали Аристотель 6.43, затем Э. Следует заметить, что с точки зрения протекционизма как бы ни были далеки от совершенства существующие демократические государства, всё же они являют собой значительное достижение в социальной инженерии, развивающейся в правильном направлении. Многие виды преступлений, нарушений прав граждан другими гражданами пресечены или значительно уменьшены, суды, как правило, хорошо восстанавливают справедливость в случае столкновения интересов. Многие полагают, что применение таких методов 6.44 к международным преступлениям и международным конфликтам — всего лишь утопическая мечта, однако совсем недавно институт эффективной исполнительной власти для поддержания гражданского мира также казался утопическим тем, кто страдал от угроз преступников в странах, где в настоящее время прочно установился гражданский мир. VIIВозвращаясь к истории рассматриваемых социальных движений, следует отметить, что теория протекционизма, по-видимому, впервые была предложена софистом Ликофроном, учеником Горгия. Уже упоминалось о том, что он, подобно другому ученику Горгия Алкидаму, одним из первых подверг критике теорию естественных привилегий. О том, что Ликофрон действительно придерживался теории, названной мной «протекционизмом», свидетельствует Аристотель; он считает в высшей степени вероятным, что именно Ликофрон выдвинул эту теорию. Согласно Аристотелю, Ликофрон считал, что «закон … оказывается простым договором или … просто гарантией личных прав; сделать же граждан добрыми и справедливыми он не в силах». Более того, Аристотель утверждает 6.45, что Ликофрон рассматривал государство как орудие защиты граждан от несправедливости (позволяющее им мирно общаться — прежде всего, торговать) и требовал, чтобы государство было союзом «в целях предотвращения возможности обид». Интересно, что у Аристотеля мы не находим указаний на то, что теория Ликофрона была построена в духе историцизма, то есть как теория об историческом происхождении государства из общественного договора. Напротив, из контекста ясно, что теория Ликофрона относилась только к целям государства, ведь Аристотель доказывает, что Ликофрон не понял, что основная цель государства состоит в том, чтобы сделать граждан добродетельными. Это говорит о том, что Ликофрон понимал эту цель рационально, с точки зрения социальной технологии и соглашался с требованиями эгалитаризма, индивидуализма и протекционизма. Поэтому возражения, предъявляемые традиционной историцистской теории общественного договора, совершенно не затрагивают теорию Ликофрона. Нередко утверждают (об этом говорит, например, Э. Баркер 6.46), что «современные мыслители шаг за шагом опровергали» теорию договора. Возможно, это так, однако анализ перечисляемых Баркером шагов такого опровержения показывает, что они, конечно же, упустили из виду теорию Ликофрона, которого Баркер считает (и в этом пункте я склонен с ним согласиться) вероятным основоположником ранней формы теории, позже получившей название теории договора. Баркер перечисляет следующие шаги опровержения теории договора: (а) исторически никогда не существовало договора; (b) исторически государство никогда не учреждалось; (с) законы — не результат соглашения, они вырастают из традиции, инстинкта, навязываются силой и так далее, и прежде чем их зафиксируют в сводах законов, они существуют как обычаи; (d) сила законов — не в угрозе наказания за их неисполнение, не в поддерживающей их защитной силе государства, а в готовности личности подчиниться законам, то есть в моральной воле личности. Легко заметить, что возражения (а), (b) и (с), сами по себе вполне правильные (хотя некоторые договоры исторически всё же существовали), затрагивают рассматриваемую теорию только в её историцистском виде и не применимы к варианту, предложенному Ликофроном. Поэтому анализировать их нет необходимости. Возражение (d), однако, заслуживает внимательного рассмотрения. Что оно может означать? Ведь критикуемая теория лучше всех других подчёркивает «волю» или, вернее, решение личности. В действительности слово «договор» предполагает соглашение «по доброй воле». Эта теория в большей степени, чем любая другая, предполагает, что сила законов — в готовности личности принять их и подчиниться им. Как же тогда (d) может служить аргументом против теории договора? Единственно возможное объяснение этого сводится к тому, что, согласно Баркеру, договор появляется на основе себялюбивой, а не «моральной воли» личности, причём такое понимание прекрасно согласуется с платоновскими рассуждениями. Однако, чтобы придерживаться протекционизма, не обязательно быть себялюбцем. Я думаю, все эти возражения не затрагивают протекционизма Ликофрона — теории, лучше всего выразившей гуманистические и эгалитаристские идеи века Перикла. Очень жаль, что у нас её похитили. К последующим поколениям она дошла только в искажённом виде как историцистская теория происхождения государства на основе договора или как эссенциалистская теория, заявляющая, что подлинная природа государства кроется в соглашении, или как теория себялюбия, основанная на предположении об аморальной, по существу, природе человека. VIIIПлатон скорее всего хорошо знал теорию Ликофрона, так как, по всей видимости, был его младшим современником. И действительно, теория, подобная этой, упоминается сначала в «Горгии», а затем в «Государстве». (Платон нигде не называет автора этой теории — так он обычно делал, если его противник был жив.) В «Горгии» эту теорию излагает Калликл, этический нигилист, похожий на Фрасимаха из «Государства». В «Государстве» её представляет Главкон. Ни в том, ни в другом случае ораторы не приписывают себе её авторство. Перечисленные фрагменты во многом аналогичны. В обоих случаях рассматриваемая теория предстаёт в историцистской форме, то есть как теория происхождения «справедливости». В обоих случаях её логические предпосылки представлены как состоящие из требований себялюбия и даже нигилизма, — как если бы протекционистский взгляд на государство был свойственен только тому, кто хотел бы причинить вред государству, но слишком слаб для этого, а потому требует, чтобы это запретили и сильному. Существующий между упомянутыми фрагментами из «Горгия» и «Государства» параллелизм неоднократно комментировался. Однако, насколько мне известно, комментаторы не заметили одного существенного различия. Вот оно. В «Горгии» о теории говорит Калликл, причём так, как если бы он был её противником. Однако поскольку он также выступает против Сократа, то Платон в этом диалоге скорее защищает, чем критикует теорию протекционизма. И действительно, взглянув внимательно, мы следует отметить, что Сократ защищает некоторые положения этой теории от нигилиста Калликла. В «Государстве» же эта теория представлена Главконом как развитие взглядов Фрасимаха, то есть нигилиста, занявшего здесь место Калликла. Другими словами, теория предстаёт здесь как нигилистическая, а Сократ — как герой, победоносно разрушающий это дьявольское учение о себялюбии. Итак, фрагменты, в которых большинство комментаторов усматривают свидетельство сходства между «Горгием» и «Государством», в действительности указывают на полную перемену направления. Несмотря на враждебный настрой Калликла, в «Горгии» выражена симпатия протекционизму, «Государство» же яростно с ним борется. Вот отрывок из речи Калликла в «Горгии» 6.47: «Но по-моему, законы как раз и устанавливают слабосильные, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы… Стараясь запугать более сильных, тех, кто способен над ними возвыситься, страшась этого возвышения, они утверждают, что быть выше других постыдно и несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость — в стремлении подняться выше прочих. Сами же они по своей ничтожности охотно, я думаю, довольствовались бы долею, равною для всех». Очистив это высказывание от открытой издевки и враждебности Калликла, мы обнаруживаем в нём элементы теории Ликофрона: эгалитаризм, индивидуализм и требование защиты от несправедливости. Самому Калликлу протекционизм не по душе, он выступает за «естественное» право сильного. Знаменательно, что Сократ, споря с Калликлом, приходит на помощь протекционизму, связывая его со своим главным тезисом о том, что лучше страдать от несправедливости, чем причинять её 6.48: «А разве большинство не держится того мнения (как ты сам недавно говорил), что справедливость — это равенство и что постыднее творить несправедливость, чем терпеть ее?» И дальше: «Значит, не только по обычаю и закону творить несправедливость постыднее, чем терпеть, и справедливость — это соблюдение равенства, но и по природе тоже». Вернёмся теперь к «Государству», где в устах Главкона протекционизм предстаёт как логически более строгий, но этически равноценный вариант нигилизма Фрасимаха. «Выслушай же то, — говорит Главкон 6.49, — в чём состоит справедливость и откуда она берётся. Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть её — плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда её творишь. Поэтому, когда люди отведали и того и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договорится друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от неё. Судя по рациональному содержанию этой речи, имеется в виду та же самая теория, о которой говорит Калликл в «Горгий», причём способ изложения сходен даже в мелочах 6.50. И всё же Платон радикально изменил свою позицию. Протекционистскую теорию он уже не защищает от голословных обвинений в том, что она основана на циничном эгоизме. Напротив, гуманистические чувства и моральное негодование, которые всколыхнул в нас нигилизм Фрасимаха, используются здесь для пробуждения враждебности к протекционизму. Эта теория, гуманистическая направленность которой показана в «Горгий», теперь усилиями Платона предстаёт антигуманистической и кажется в действительности следствием отталкивающего и в высшей степени неубедительного учения о том, что несправедливость хороша для тех, кто способен её избежать. Платон не стесняется постоянно об этом твердить. Итак, следует признать, что все платоновские аргументы против протекционизма сводятся к представлению этой теории как якобы теории себялюбия. Если же мы примем во внимание тщательность проведённого Платоном анализа этой теории, то сможем с уверенностью сказать, что не лаконизм помешал Платону предложить лучший довод против неё, а отсутствие такого довода. Таким образом, протекционизм, по Платону, должен был быть отвергнут в результате обращения к нашим моральным чувствам — как оскорбляющий идею справедливости и наше чувство порядочности. Вот так поступил Платон с теорией, которая была не только опасной соперницей его собственному учению, но и представляла собой новый гуманистический и индивидуалистический символ веры, то есть злейшего врага всего, чем он дорожил. Платоном был использован хитроумный метод, который принёс изумительный успех. Однако справедливости ради я должен открыто признать, что платоновский метод кажется мне нечестным. Ведь критикуемая теория не нуждается в каких-либо аморальных допущениях, а лишь в предположении, что несправедливость есть зло, что её следует избежать и взять под контроль. Подведём итоги. Платоновская теория справедливости, представленная в «Государстве» и других его более поздних работах, — это сознательная попытка взять верх над эгалитаризмом, индивидуализмом и протекционизмом его времени и возродить принципы родового строя с помощью тоталитаристской теории морали. В то же время новая гуманистическая мораль произвела на Платона огромное впечатление. Однако вместо того, чтобы бороться с эгалитаризмом посредством рациональных доводов, он даже не желает его обсуждать. Он сумел лишь заручиться поддержкой гуманистических чувств, сила которых была ему хорошо известна, и использовать их в интересах тоталитарного классового правления доминирующей расы, обладающей естественным превосходством. Платон заявлял, что эти классовые прерогативы необходимы для поддержания стабильности государства и поэтому составляют сущность справедливости. Это, однако, ещё не все. Подчёркивая исключительную важность классовых интересов, платоновская теория справедливости помещает в центр политической теории следующую проблему: «Кто должен править?» Платон отвечает, что править должен мудрейший и лучший. Разве этот превосходный ответ не меняет на самом деле его теорию? |
Платон и Аристотель: кто более матери-истории ценен?
Все началось со случайного обрывка разговора: —
Было бы лучше, если б в европейской культуре было больше Аристотеля; ее
развитие пошло бы чуть по-другому… — Да, на русском до сих пор нет
его хороших переводов… Покопавшись в своем скромном философском
багаже, я обнаружила, что имена ученых-платоников приходят на ум как-то
быстрее, от блаж.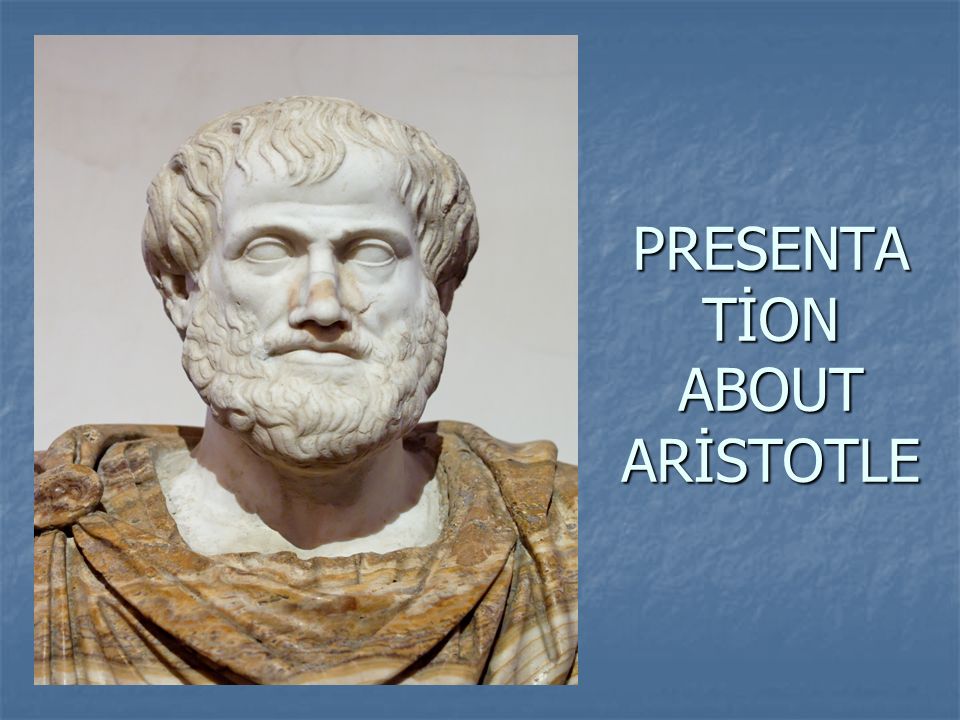 Августина до о. Павла Флоренского; а мистицизм и
Августина до о. Павла Флоренского; а мистицизм и
Средневековье воспринимаются почти как синонимы.
И
уж куда без вопроса об античной философии, особенно платонизме, и
христианстве! Особенно поражает неофитский задор известие об
иконописном чине античных мудрецов в древнерусских подлинниках XVII в.:
«Платон. Рус, кудряв, в венце; риза голуба, испод киноварь; рукою
указает во свиток. Сице рече: Понеже благ есть и благословению есть
виновен, злым же никакоже». Той же рече: Аполлон несть бог, но есть бог
на небесех; ему же снити на землю и воплотитися от девы чистыя, в него
же и аз верую; и по четырехстех летех по божественнем его рождестве мою
кость осияет солнце»[1].
Об Аристотеле и Платоне, дискретности и недискретности окружающего
мира, кротах и готическом стиле мы и беседовали однажды вечером на
кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания филологического
факультета МГУ с ее заведующим, д. ф. н., проф. Александром Александровичем Волковым и к. ф. н., классиком по образованию, ст. преп. Алексеем Михайловичем Беловым (http://genhis.philol.msu.ru/cat_index_28.shtml).
Александром Александровичем Волковым и к. ф. н., классиком по образованию, ст. преп. Алексеем Михайловичем Беловым (http://genhis.philol.msu.ru/cat_index_28.shtml).
— Давайте сначала разберемся, как в
европейской культуре появились Платон и Аристотель; как и когда их
труды вошли в европейский научный оборот.
А. А. Волков: Надо сказать, трудов Аристотеля в
Европе могло вообще не оказаться: когда его ученики создавали
знаменитую библиотеку, называвшуюся Музейон, в Александрии, то долгое
время полного собрания трудов Аристотеля там не было — их удалось
собрать только лет через сто после его смерти (Аристотель род. в
384, ум. в 322 г. до Р. Х.; в течение 20 лет, вплоть до смерти Платона
(428/27 — 348/47 гг. до Р. Х.) был участником знаменитой платоновской
Академии в Афинах. — Примеч. ред.).
А. М. Белов: Около двухсот лет они лежали в забвении — их закопал один из наследников Аристотеля.
— Зачем он это сделал?
А. Б.: Получилось так, что после смерти
Александра Великого, который был, как известно, учеником Аристотеля,
ненависть афинян к македонцам обратилась на Аристотеля. Его обвинили в
безбожии и (по ряду сведений) еще в каких-то делах, связанных с
элевсинскими мистериями[2]; философ был вынужден бежать в г. Халкиду, на о. Эвбею, а руководство школой (вернувшись
в Афины из Македонии, Аристотель создал в 355 г. до Р. Х. собственную
школу — Ликей, называвшуюся еще перипатетической. — Примеч. ред.) и
библиотеку передал ученику Феофрасту. Феофраст, очевидно, приумножил
коллекцию, однако в Ликее сохранить ее не удалось: сам Феофраст оставил
ее своему последователю Нелею, однако главой Ликея стал не он, а другой
философ Стратон. В результате Нелей уехал из Афин в свой родной г.
Скепсис и увез библиотеку с собой. Позже возникла опасность, что книги
могут быть конфискованы правителями Пергама, желавшими построить
библиотеку, не уступающую Александрийской. Не желая отдавать книги,
Не желая отдавать книги,
наследники зарыли их в землю, и откопаны они были уже в I в. до Р. Х.
Все это говорит о том, что после смерти Аристотеля
достойных преемников и лидеров в Ликее так и не нашлось; судя по всему,
и преподаватель он был не особо хороший.
А. В.: Да, во всяком случае, читая «Метафизику»,
это можно утверждать достаточно твердо, потому что текст невнятный и,
очевидно, представляет собой записи студентов.
А. Б.: Есть мнение, что значительная часть
сохранившихся трудов Аристотеля представляет собой конспект, по
которому он должен был читать курс, но вопрос до конца не ясен. Что
касается «Метафизики», то, как выясняется, такой труд Аристотель вообще
не писал. Дело в том, что первый издатель трудов великого философа
Андроник Родосский (ок. 45 г. до Р. Х.) старался расположить труды
Аристотеля по принятому тогда принципу логика — физика — этика.
Соответственно в «Метафизику» (название тоже Андорика) издатель включил
различные тексты, которые по своей тематике должны были идти после
физики, но перед этикой. (К примеру, V книга «Метафизики» представляет
(К примеру, V книга «Метафизики» представляет
собой совершенно независимое сочинение.) Эти обстоятельства, конечно,
еще более затрудняют наше восприятие аристотелевских текстов.
А. В.: Короче говоря, философия Аристотеля стала
по-настоящему систематизироваться и обретать реальную внятность только
через два столетия после смерти Аристотеля.
— Можно ли сказать, что до этого идеи Платона, его философская школа были более распространены? Более, скажем так, популярны?
А. В.: Дело в том, что Платона
читали, плохо его понимая, ради художественности текста. Неоплатонизм
есть до некоторой степени расшифровка и новое прочтение произведений
Платона. С неоплатонизмом тоже история сложная и вот почему: каких
неоплатоников мы знаем? Самые известные — Ямвлих, Плотин; но основатель
христианского богословия Ориген был лет на двадцать старше Плотина (Плотин (206-269), Ориген (ок. 185-253/54). — Примеч. ред.:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-140442199-5a7776161d640400377f4497.jpg) ).
).
Они оба жили, работали, учились в Александрии. По некоторым данным,
«Эннеады», главное произведение Плотина, представляют собой некоторый
рефлекс на христианский текст — постольку, поскольку именно в это время
в христианских кругах стал вводиться кодекс, как форма представления
текста, свиток заменялся кодексом. Это II — нач. III в. Кодекс было
просто удобнее носить с собой. Так появились первые тетрадочки,
Псалтирь, например. «Эннеады» Плотина построены таким образом, что они
как бы воспроизводят структуру христианских текстов. И само содержание
плотиновской философии в значительной мере представляет собой некий
рефлекс, очевидно, на христианское богословие уже того времени. Скорее
всего, неоплатонизм отталкивается от христианства, есть некая реплика
на христианство, некоторое противопоставление христианству, чем
наоборот. И поэтому вопрос о платонизме великих отцов Церкви, великих
каппадокийцев: св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св.
Григория Богослова, св.
Григория Нисского и даже св. Иоанна Златоустого, которых можно считать
христианскими платониками, — это совершенно особый вопрос, потому что
используемая ими философская терминология — Платона и терминология,
которую мы считаем терминологией неоплатонизма, — тщательнейшим образом
перерабатывалась в своем содержании.
— То есть влияние получается
взаимным: с одной стороны, христианские богословы использовали
терминологию античной философии, а с другой стороны, Плотин испытывал
влияние христианства.
А. В.: Да, да.
— А теория о невещественном
Фаворском свете и Божественных энергиях у свт. Григория Паламы
каким-либо образом связана с неоплатонической идеей эманации?
А. В.: Нет, идея эманации совершенно языческая.
Нужно помнить о том, что в то время существовало множество гностических
теорий, рассказывать о которых — целая история. Эти теории шли из
Египта, из Ирана, из Сирии и были очень разнообразными по своему
происхождению.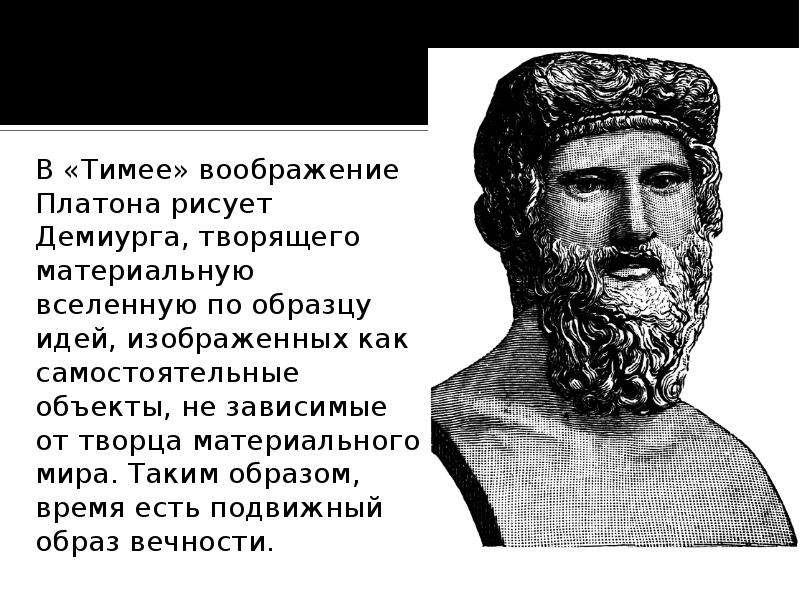 Всякая гностическая теория является дуалистической, и,
Всякая гностическая теория является дуалистической, и,
поскольку таких моментов в неоплатонизме достаточно много, в раннем
христианстве тоже, разобраться в этом представляется довольно сложной
задачей. Скорее всего, тут следует сказать о том, что неоплатонизм
происходит от старого платонизма, но при этом он представляет собой в
значительной степени рефлексию на определенные христианские положения.
И нет никакого сомнения, что эти школы контактировали, пересекались и
т. п.
— Таким образом, у самого Платона каких-то идей, которые можно было бы назвать христианскими, мы не найдем?
А. В.: У Платона мы можем найти идеи, которые
можно назвать близкими к христианству. Я перечислю эти идеи, Алексей
Михайлович поправит меня, если я скажу что-то не то: во-первых, это идея Единого Бога. Во-вторых, это в принципе идея троичности Божества. И исчисление этой троичности; мы читаем об этом, в «Протагоре», например.
Что мы читаем у Платона того, что в принципе не подходит к христианству?
А именно: то, что тело — темница души. Это дуалистическое определение
Это дуалистическое определение
души и тела входит в прямое противоречие с христианской антропологией,
потому что для христианства очень важно понятие личности. Личность
человека — это единство души и тела: данное тело принадлежит данной
душе и данная душа принадлежит данному телу. Это первое, что христианство отметало у Платона. Вторая
идея — это метемпсихоз, т. е. переселения душ. Она очень опасна для
христианина и отвергалась соборно; за нее, собственно говоря, Платон и
Ориген были анафематствованы V Вселенским собором (553). Третья
идея, косвенно восходящая к Платону, — это идея Оригена о том, что все
души были сотворены в одно и то же время, т. е. существовали до
появления конкретных людей. Все души, по Оригену, отпали от Бога, и те,
которые отпали больше, — нечистая сила, а те, которые отпали меньше, —
это мы с вами. И поэтому плохая душа вселяется в нищего, в
какого-нибудь негодяя, а хорошая душа вселяется в достойного человека.
Так Ориген в сочинении «О началах» объяснял, почему люди разные, и эта
идея тоже была анафематствована Церковью. Это то, что касается Платона
и Оригена. Очень важный момент во внутреннем содержании философии
Платона — софистика.
В современном русском языке слово «софистика» стало
почти бранным. Софистов считают манипуляторами словом и обманщиками, а
под софизмом понимают неправильное умозаключение, сознательную
логическую подтасовку. Между тем, софисты, которых резко критикует
Платон, пользуясь, однако, явно «софистическими» приемами, на самом
деле сыграли значительную роль в истории мысли, не меньшую, чем сам
Платон. Он критиковал софистов с позиций нравственности и обвинил их в
том, что они учили людей диалектической, т. е. полемической технике, не
прививая им любви к мудрости — религиозной и философской морали, и тем
самым создавали ловких демагогов. Насколько Платон был прав в отношении
именно софистов, не решусь сказать, но сама его мысль верна —
воспитание духовной морали лежит в основе образования. Софисты создали
Софисты создали
профессиональную философию и, главное, технику философской и научной
аргументации. Они сформулировали проблемы, которые пытался решить
Платон и которые философия и наука решают до сих пор. Например,
проблему общего и отдельного, — скажем, почему и каким образом слово
«конь» может означать любого коня и, следовательно, существует ли
«конь», как таковой? Но главное, софисты создали первую систему
образования, в которой центральное место занимала диалектика —
тренировка интеллекта и умение быстро и точно находить доказательные
аргументы «относительно каждого данного предмета», как впоследствии
определил риторику Аристотель. В тех же целях подготовки «достойного
мужа, готового к речи» они впервые построили классификацию предметов
мысли и их отношений — топику. Но они учили и критическому анализу
мысли и речи. Вот этого уважения к технической стороне мысли и навыка
содержательной критики речи, как мне кажется, нам особенно не хватает.
Аристотель систематизировал эту технику мышления. Но,
будучи учеником Платона, он подверг критике взгляды учителя.
Впоследствии учение Аристотеля стали противопоставлять учению Платона.
А. Б.: Для того чтобы лучше все это представить,
нужно сделать небольшое отступление. Проф. О. С. Широков однажды
высказал оригинальную мысль о том, что атомистическая теория Демокрита
обязана с очень большой вероятностью своим существованием греческому
алфавиту. Идея эта глубоко правильная, и, более того, она вскрывает
различие между греками и римлянами, а также между двумя важнейшими для
европейской культуры принципами в понимании устройства мира.
А. В.: Вспомним, что буква, звук и их обозначение — все вместе по-гречески называется stoichéia (стихия).
А. Б.: Для
Античности было очень характерно объединение учений космологических и
грамматических. Это видно не только на примере с алфавитом, но и во
многих других случаях, например у стоиков, когда ударение называется
душой слова; эта идея присутствует и в позднейшей грамматике. В целом
В целом
для Античности было характерно двойное представление об устройстве мира
или, точнее, о том, как это устройство мира можно описать. И различие
заключалось, главным образом, в том, что можно назвать одним термином —
дискретность/недискретность.
Здесь можно привести примеры самого разного свойства,
сравним, например, греческое и римское право. Аристотель в книге
«Риторика» говорит о том, что законов должно быть по возможности
столько, чтобы (почти) каждый акт, каждое событие, каждый тип отношений
в обществе был хорошо регламентированным тем или иным законом; это
нужно для того, чтобы судья легко мог выносить то или иное суждение,
опираясь на закон, а не на собственное мнение. Иное дело у римлян.
Здесь точка зрения прямо противоположная: лучше, чтобы законов было как
можно меньше, как, например, законы 12 таблиц, но при этом каждый закон
растолковывался бы уникальным способом для каждого случая справедливым
человеком, и это уже будет давать систему права.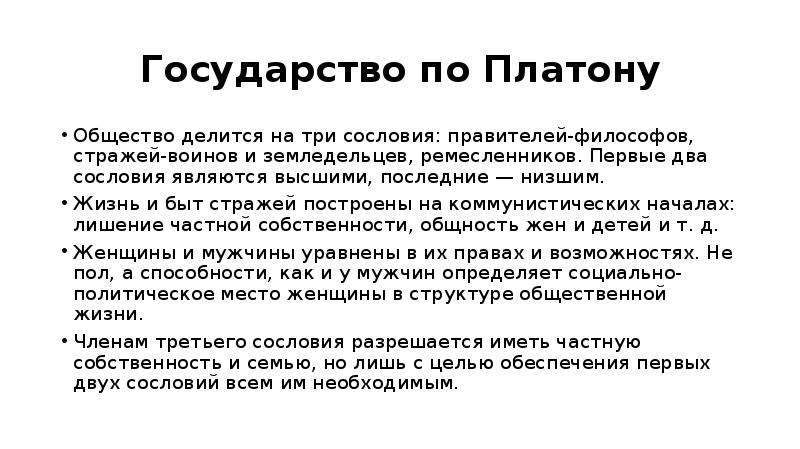 Тем самым
Тем самым
возрастает роль личности (как судьи, так и обвиняемого) в процессе,
усиливается интерес к конкретным, неповторимым обстоятельствам дела.
Греческое сознание как бы накладывает на мир мелкую сетку дискретных
категорий, тогда как римлянам более свойственны (выражаясь
терминологически) «системы с нечеткой логикой», с широкими «переходными
зонами».
То же с концепцией мира. Демокрит представлял себе мир
в виде конструкции из множества а-томов (не-делимых первоэлементов),
что само по себе хорошая иллюстрация греческих представлений Греции о
дискретности. Ведь каждый предмет может быть поделен без остатка на
какое-то число атомов. В учении Платона мы увидим примерно то же самое,
но повернутое к нам как бы с другой стороны. Ведь почему над дверями
своей академии Платон повесил девиз, гласящий, что не должен входить
туда человек, не владеющий геометрией? Это можно объяснить таким
примером. Всегда ли сумма углов в треугольнике (на плоскости) равна 180
градусам? На самом деле нет. 180 градусов будет сумма углов только в
180 градусов будет сумма углов только в
таком треугольнике, который идеален, тогда как треугольник, от руки
нарисованный на бумаге или мелом на доске, уже не будет гарантированно
иметь в суме 180 градусов в силу «иррациональности материи». И все
учение Платона строится вокруг того же самого: есть мир, который
подчиняется строгим математическим, глубоко дискретным отношениям, и
наш мир материальный как бы отражение и проекция того мира сюда, точно
так же, как идеальный треугольник проецируется на рисунок мелом на
доске. (Что касается отношения к иррациональным числам в греческом мире
— это отдельная проблема, о которой позволю себе здесь умолчать.)
Получается, что есть чистые умозрительные, умопостигаемые отношения,
существующие в математическом мире, и наш мир, который является уже
иррациональным в том или ином смысле по отношению к этим математическим
абстракциям. Отсюда ясно, почему в Античности не были особо развиты
естественные науки. Не оттого, что античные люди в этом отношении были
Не оттого, что античные люди в этом отношении были
примитивны в силу своей рабовладельческой природы, как часто, особенно
в советские годы, можно было услышать, — как раз в интеллектуальном
отношении они во многом современных людей превосходили; но они считали,
что этот самый мир принципиально непознаваем. Никогда в нем сумма углов
в треугольнике не будет равна 180 градусам, а окружность никогда не
будет представлять множество точек, одинаково удаленных от центра, и т.
д. Это особенно касается греков. Здесь Платон поймал ключевой момент,
основную мысль, которая была свойственна всей греческой культуре: есть
идеальная система отношений, а есть иррациональные провалы и промежутки
между этими единицами. И если мы проанализируем всю греческую
философию, то практически везде мы увидим представления о дискретных
сущностях мира, кроме нескольких учений, утверждавших противоположное.
Здесь следует особо отметить, во-первых, Гераклита с его огнем и, сами
понимаете, названного темным, а во-вторых, — это, конечно, стоицизм,
развивавший учения последнего. Стоицизм не имел такого серьезного
Стоицизм не имел такого серьезного
продолжения и столь большой популярности на греческой почве, как,
например, платонизм, да и с эпикурейством он тягался лишь на равных, —
при том, что в Риме учение стоиков нашло дальнейшее развитие, и
римляне, даже весьма далекие от философии, с готовностью это принимали.
Так вот, это все к тому, что Аристотель и в этом
компоненте является своего рода золотой серединой в европейской
философии. Он, конечно, был греком, его мысли по поводу законов я уже
пересказывал, его «Категории» известны всем, но тем не менее со своим
учителем Платоном он разошелся именно на почве глубоко «дискретного»
устройства платоновского идеализма. Аристотель не принимал идеи Платона
как основу мира, он первым предложил термин материя (hylē),
первым вывел идею неделимого различия между материей и формой: две
категории — отдельно материя и отдельно форма, но тем не менее они
неделимы. Именно Аристотеля видели основоположником естествознания, его
физика предопределила картину мира до Ньютона, а его ученик Феофраст
стал отцом ботаники. Да и мысль Платона о том, что какой-нибудь
Да и мысль Платона о том, что какой-нибудь
правильный додекаэдр прекраснее «иррационального» человеческого тела,
ему была глубоко чужда — в этом смысле он создатель и европейской
эстетики. Знаменательна в этом отношении и его «Поэтика»…
— Вы считаете, можно было бы разделить типы культуры на платоновский и аристотелевский?
А. Б.: Да,
но все-таки корректнее будет говорить не о платоновском и
аристотелевском типе культур, а о дискретном и недискретном. Ведь
Аристотель — это скорее середина между дискретными учениями (вроде
платонизма или атомизма) и недискретностью теорий типа стоицизма. И
действительно, есть два типа европейских государств: одни любят, чтоб
все было по ГОСТу, четко — единая столица, стандарты, неприязнь к
диалектам, местечковости и т. д. То, что иногда называют имперским
сознанием: Древний Рим, Византия; таким является русский тип сознания,
так мыслят французы, испанцы, до некоторой степени англичане.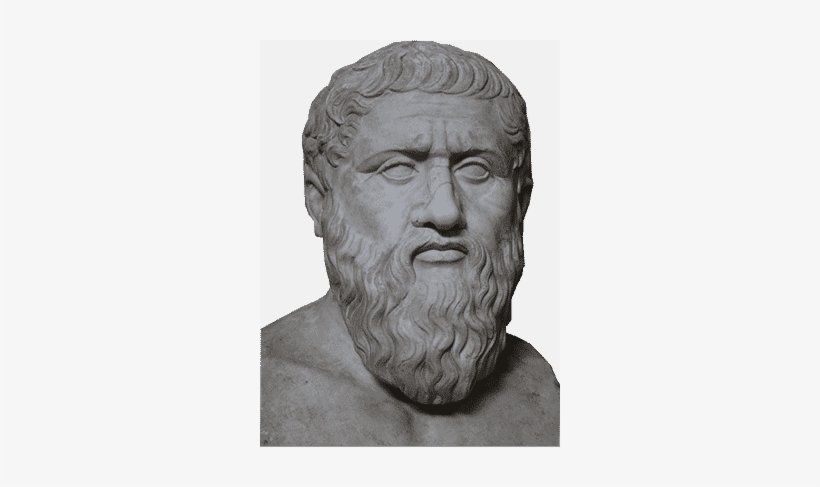 А с
А с
другой стороны, есть немцы, балканские народы, некоторые скандинавские,
балтийские, у которых все исторически было наоборот: землячество вместо
унитаризма, диалекты конкурируют с литературным языком, тяга к
раздробленности, местным традициям, местным культам. Такими были как
раз древние греки.
— А чьи идеи, Платона или Аристотеля, оказали большее влияние на европейскую культуру?
А. В.: Платон и Аристотель в европейской
культуре — это уже другая история, связанная с к. XVII — нач. XVIII в.,
это Лейбниц. Учение Лейбница о бесконечных малых и его учение о монаде
— это как раз и есть теория, которая сводит представление о
недискретности мира, свойственное парапатетикам, т. е. Аристотелю и его
последователям, с представлением о дискретности и математических
сущностях, которое характерно для платонизма в первую очередь.
А. Б.: Можно привести пример из лингвистики:
Фердинанд де Соссюр, конечно, сделал большой переворот в языкознании,
это бесспорно, но тем не менее он насаждал дискретность и там, где
нужно, и там, где не очень стоит. А главное новаторство тут было в том,
А главное новаторство тут было в том,
что его идеи пришли на смену недискретности в языкознании XIX в. (т. н.
исторический подход). Такова мысль де Соссюра о том, что синхрония
никаким образом не пересекается с диахронией, что это абсолютно разные
вещи.
А. В.: Типичное проявление платонизма.
А. Б.: Что касается Платона, то можно сказать,
что его учение больше отражает некий национальный тип сознания. Он
ухватил в своем учении то, что было наиболее свойственно грекам. Греки
любили все маленькое, свое, атомарное: и сами города-государства по
отношению к нации, и сами граждане в пределах города-государства.
— А Византийская империя?
А. В.: Византийская империя была империей одного
города — центра. Этот центр подминал под себя все остальное. Возьмем,
например, историю Святой Софии: ведь в нее были свезены колонны из
Баальбека, из Рима и из всех-всех, какие только могли быть, городов и
крупных центров тогдашней империи. Они до сих пор украшают Святую
Они до сих пор украшают Святую
Софию. Что касается средневековой Западной Европы, то здесь целая
проблема с Платоном и Аристотелем вот почему: основатель
западноевропейского богословия блаженный Августин был совершенно
определенным и явным платоником с весьма существенными элементами
дуалистического мистицизма: сначала он был манихеем, а потом уже принял
христианство. Его многочисленные работы, в частности работы, содержащие
теорию знака (знаменитый диалог «Об учителе»), отражают сложные
представления об устройстве взаимоименующих сущностей, когда слова
языка называют другие знаки и самих себя. Отсюда, кстати сказать, во
многом идут более поздние теории, и они связаны с наследием греческого
мышления. Но дело здесь не только в Августине. Дело в том, что
платонические идеи были характерны для первого самого значительного,
самого большого периода истории христианской литературы на Западе.
Аристотель стал переводиться на латинский язык примерно со времен
Боэция (480-524).
— До этого они существовали только на греческом?
А. В.: Да. Латинский язык еще не имел достаточно
разработанной философской терминологии, которую Боэций и изобрел. В
переводах Боэция произведения Аристотеля дошли до эпохи схоластики, т.
е. до того времени, когда начал складываться готический стиль.
Другим великим человеком, который сильно подтолкнул
развитие западноевропейской мысли, был Иоанн Скотт Эриугена (810-877),
который был последовательным платоником и мистиком. Произведения
Эриугены, которые были отвергнуты западной Церковью по ряду причин,
исходили из мистического платонизма, и он оказал очень сильное влияние
на мистическое мышление Запада. Это мистическое мышление Запада,
связанное, так или иначе, с традицией, восходящей к Оригену, и с
появлением переводов Ареопагитского корпуса, было связано с началом
схоластики и готического искусства. Дело в том, что идея апофатизма, т.
е. восхождения к Божеству через созерцание, идея идеальной конструкции
мира легла в основание представлений знаменитого аббата Сюжера
(1088-1115), который перестроил аббатство Сен-Дени в Париже, создав
прецедент готического стиля в 1-й пол. XII в. С этого начинается
XII в. С этого начинается
развитие готики и — в области мистического мышления — отношения
человека к Божеству, ибо готический храм и представляет собой духовное
восхождение человека к той самой точке, где, как в Соборе Парижской
Богоматери, находится гвоздь от Креста Господня.
Вообще схоластическая философия, классические
схоластические работы — Фомы Аквинского, Бонавентуры («Восхождение души
к Богу») — строятся именно как платоническая система. Но к тому
времени, как стала развиваться готика, после разграбления
Константинополя в 1204 году в Западной Европе появилось множество
греческих сочинений. С этого времени начинается систематический перевод
и осмысление Аристотеля.
— До этого был период забвения Аристотеля?
А. В.: Да, был период, когда Аристотель был
недостаточно известен, а в XIII веке делаются систематические переводы
его произведений. Его влияние на Западе стало шире. И вот тут-то
аристотелева техника оказала громадное влияние на строение
схоластической науки. Эта техника воспитывает логическую культуру
Эта техника воспитывает логическую культуру
мышления, но при этом постепенно складывается противопоставление учения
Церкви учению Аристотеля, а учение Церкви было платоническим по своему
существу. Возникает явное противоречие в главных положениях — и о
бесконечности мира, и о всеобщей причинности. Бесконечность мира во
времени противоречит Св. Писанию, как и учение о всеобщей причинности,
потому что если Бог сотворил мир как необходимое, то мир оказывается
необходимой частью Бога — Бог как бы был вынужден сотворить мир.
Творение мира контингентно, т. е. не необходимо, и все вещи в мире
контингентны, т. е. могут быть, а могут и не быть. Это столкновение иде
контингентности мира и идеи его логической организации — и было камнем
преткновения в истории схоластики. Отсюда вытекает столкновение
реалистов — людей платонической ориентации и номиналистов — людей
аристотелевской ориентации.
А. Б.: Тут надо вспомнить знаменитую притчу о
глазах крота. Представьте себе ситуацию, когда гуляют по внутреннему
Представьте себе ситуацию, когда гуляют по внутреннему
дворику, например, Сорбонны двое профессоров-платоников и ведут спор на
тему, есть ли у крота глаза. Их спор слышит садовник, который говорит:
«Господа, что же вы так напрягаетесь? Давайте я вам сейчас поймаю
крота, принесу, и вы посмотрите, есть ли у него глаза или нет». На что
те ему говорят: «О, неуч! Что же ты понимаешь в наших философских
спорах? Мы спорим не о том, есть ли у конкретного крота глаза, а о том,
есть ли глаза у крота, как такового. Поэтому никакой представленный
конкретный крот не будет являться доказательством». И в этом кроется
глубокий смысл — что было бы с европейской культурой при резком
перекосе взглядов в сторону Платона.
— Если подытожить, то от Аристотеля нам досталась логика, техника мышления, ну а все душевное от Платона.
А. В.: от Аристотеля — эмпирический подход к знанию.
А. Б.: Как кажется, различие между философскими
системами Платона и Аристотеля связано с религиозными убеждениями того
и другого. То, что Платон имел непосредственную связь с орфизмом, вроде
То, что Платон имел непосредственную связь с орфизмом, вроде
бы доказано. Орфизм, говоря кратко, — учение о двух началах в человеке:
дионисийском (божественном) и титаническом (титаны — порождение Земли).
Дух — божество, а все остальное — тленная материя. После смерти душа,
возвращаясь в Диониса, переселяется из одного тела в другое. При этом,
в зависимости от того, какую жизнь ведет человек, поступает он
нравственно или безнравственно, душа у него каждый раз вступает в
конфликт с материальной оболочкой. И грехи приводят к тому, что душа
как бы «прирастает» к этой материальной оболочке. Тем самым переселение
души, сильно отягощенной грехами, оказывается весьма затруднительным.
Поэтому на этом свете и практикуются различные терапевтические
воздействия, которые позволяют душе сбросить то греховное, что
накопилось.
— Что это за воздействия?
А. Б.: Если требуется подробное описание, можно
обраться, например, к VI книге «Энеиды» Вергилия. Там как раз собраны
Там как раз собраны
многие народные представления об этом — то, что вошло в разные
апокрифические теории ада, и отчасти чистилища, что мы находим
впоследствии у Данте Алигьери. Переселение души предполагает
отторжение материи; получается, что материя — это «плохо», а душа — это
«хорошо». (Пифагор говорил, что тело — гробница души.) И действительно,
у Платона это почти так. А вот Аристотель, который, как кажется, имел
непосредственное отношение к Элевксинским мистериям, говорил о другом.
Что такое перерождение и воскрешение человека? В Элевксинских мистериях
оно сравнивалось не с переселением души, а с прорастанием зерна. Зерно
падает в землю и целиком перерождается в новое растение, где и
наполнение, и внешняя форма соответствуют чему-то одному единому,
целому и неделимому.
А. В.: Кстати, см. «Шестоднев» св. Василия Великого.
А. Б.: Да, Аристотель своим учением о единстве
материи и формы как раз и продолжает эту линию недискретного соединения
одного и другого и приближается в данном случае к христианскому
пониманию.
— Поэтому он среди других античных философов и изображен на фреске Благовещенского собора и на южных вратах Успенского…[3]
А. Б.: Общее впечатление действительно такое,
что, в сущности, расхождения между учениями Платона и Аристотеля
примерно такого же порядка, как расхождения между этими двумя
мистическими религиями — религией Диониса и религией Деметры.
Дионисийство было свойственно всей Греции, культ Диониса был
распространен в очень многих разных местах, не было его единого центра.
И получилось так, что Платон, явно симпатизировавший орфизму вообще и
Пифагору в частности, ухватил в своем учении вот это Греческое, как
таковое, — да и и учеников у него было много, и сам он был вполне себе
любвеобильным человеком. А Аристотелю, сыну врача, все упомянутые мысли
орфиков и Пифагора были не по душе; очень может быть, что на этой почве
у них с Платоном были и какте-то идеологические разногласия. Да и сам
Аристотель был другим: довольно одиноким, заикался, нервный был,
вспыльчивый, видимо, бегал из угла в угол, когда пытался на пальцах
что-то объяснить ученикам, когда те его совершенно не понимали. Так
Так
вышло, что человек, который построил свою систему европейского знания,
имел многих последователей, но практически не имел продолжателей; разве
что Феофраст, да и тот в масштабе взглядов и личной харизматичности
явно уступал своему учителю. И лишь какие-то косвенные связи приводят
нас через Праксифана к Каллимаху, к Александрийской школе, там
пересекаются со стоицизмом и постепенно, словно ручейками, питают озеро
нашей европейской культуры, в то время как учение Платона можно
сравнить с устремляющейся туда рекой.
[1] Цит. по: Чумакова Т. В. Рецепции Аристотеля в древнерусской культуре — http://drevn.narod.ru/_edn22
[2]
Религиозный праздник в Аттике (Древняя Греция) в честь богинь Деметры и
ее дочери Персефоны (Коры), культ которых относится к числу древнейших
аграрных культов. Совершавшиеся издревле в Элевсине, после
присоединения Элевсина к союзу аттических общин (к. VII в. до Р. Х. )
)
стали общегосударственным афинским празднеством. Справлялись в конце
сентября — начале октября; в их ритуал входили среди прочего и
собственно мистерии, т. е. представления, в которых изображались
горести Деметры, потерявшей дочь, поиски ее и радость по поводу
возвращения Персефоны. Детали Э. м., включающих, по-видимому, пантомиму
и декламацию священных текстов, неизвестны (по тексту БСЭ).
[3]
«В XVII веке образы античных «мудрецов» появляются в русских церквях.
Д. Сперовский писал: «…почти одновременно с образование на верху
иконостасов яруса с иконами страстей Христовых и апостольских появилось
еще одно новое прибавление; это изображение сивилл и философов на
тумбах внизу под местными иконами. Изображения философов на
иконостасных тумбах сохранились в соборном храме Хутынского монастыря,
в николаевской церкви, что в Новгородском Отенском монастыре… эти
изображения были совсем неизвестны в русской иконографии ранее XVI
века». Наиболее известные изображения античных философов находятся в
Наиболее известные изображения античных философов находятся в
Благовещенском соборе Московского кремля и на южных дверях Успенского
собора в Кремле, на фресках галереи московского Новоспасского
монастыря, писанных в 1689 г, изографом Оружейной палаты Федором
Зубовым с городскими костромскими иконописцами» (Чумакова Т. В.
Рецепции Аристотеля в древнерусской культуре — http://drevn.narod.ru/chumakova_aristotle.htm#_ednref22 )
Источник: www.taday.ru
Кто такой Платон и что великого он сделал? | С другого угла
Платон – вероятно, один из самых знаменитых философов Древней Греции, чьи изречения до сих пор цитируются в современном обществе.
Почему он стал так известен, и какой вклад внес античный ученый в развитие человечества?
«Платон мне друг, но истина дороже» (Сократ, V век до н.э.)
Настоящее имя ученого Аристокл. Платон – это прозвище, в переводе на русский «широкий».
Философ, действительно, был широк в плечах и даже являлся чемпионом Греции по панкратиону – жесткому виду единоборств, где не было правил, разделений по весу, возрасту и ограничения времени поединка.
Родился столь необычный человек в 427 году до н.э. в богатой аристократичной семье. Капитал родителей позволил Платону получить всестороннее образование и прославить свое имя.
Ученый не жалел денег на пропаганду и пиар, скупал и уничтожал труды своих соперников, подкупал крикунов, которые поддерживали его на публичных выступлениях и много путешествовал.
Не обошли стороной Платона и многочисленные приключения. Философ успел побыть наставником царя Сиракуз и некоторое время править полисом от его имени, примерил на себя роль раба после опалы, основал Академию философии в Афинах и дожил до 81 года.
Платон на фреске Рафаэля Санти «Афинская школа»«Афинская школа» – фреска работы Рафаэля Санти в Станца делла Сеньятура («Зале указов») Ватиканского дворцаПлатон на фреске Рафаэля Санти «Афинская школа»
Как бы то ни было, имя Платона гремело по всей Греции. Его идеи вызывали восторг, как в эпоху Античности, так и сегодня. Придуманная философом концепция идеализма оказала значительное влияние на культуру и искусство Средневековья, а мысли о бессмертии души легли в основу христианской догмы.
Его идеи вызывали восторг, как в эпоху Античности, так и сегодня. Придуманная философом концепция идеализма оказала значительное влияние на культуру и искусство Средневековья, а мысли о бессмертии души легли в основу христианской догмы.
Что представляет собой наш мир?
Видение мира изложено в форме диалога в его труде «Государство». Аллегория более известна как «Миф о пещере».
Представьте, что в пещере живут люди. Их руки и шея закованы с малых лет таким образом, что они могут смотреть только перед собой, не зная, что происходит вокруг.
Позади них горит костер, который отбрасывает свет и, ходят другие люди, которые занимаются своими делами.
Так вот, их тени отчетливо видны на стене пещеры, куда вынуждены смотреть узники. Не имея представления о мире позади себя, узники считают, что тени – это настоящие вещи и события.
По Платону пещера олицетворяет наш мир. Подобно узникам мы изучаем его с помощью органов чувств и делаем на их основе выводы о жизни, смерти, любви и т.д. Однако такая жизнь – это иллюзия. Мы не знаем сущности бытия и судим только по «теням на стенах».
Подобно узникам мы изучаем его с помощью органов чувств и делаем на их основе выводы о жизни, смерти, любви и т.д. Однако такая жизнь – это иллюзия. Мы не знаем сущности бытия и судим только по «теням на стенах».
Платоновский «Миф о пещере» Яна Сенредама, согласно Корнелису ван Харлему, 1604 г., Альбертина, Вена
У мифа есть продолжение. Если узника вдруг освободить и позволить ему обернуться, посмотреть на костер и людей отбрасывающих тени, то ему окажется мучительно больно осознавать новую реальность. Ему проще вновь заковать себя в цепи и смотреть на стену впереди. Если же человек расскажет об увиденных вещах товарищам, то они ему никогда не поверят.
Бессмертная душа
Ученый верил, что человек состоит из души и тела. При этом, Платон стал первым греком, кто попробовал доказать бессмертность души.
Душа бессмертна потому что:
1. У всего есть противоположность, если существует смерть, значит существует и бессмертие;
У всего есть противоположность, если существует смерть, значит существует и бессмертие;
2. У человека с рождения заложены универсальные понятия о справедливости и красоте. Это говорит о том, что душа существовала ранее, вступала в жизнь в другом теле и просто помнит эти понятия;
3. У всего есть видимая сторона и невидимая. Предположим, видимая сторона – это тело. Невидимая – душа. Тело стареет и меняется. Душа не изменяется с возрастом. Поэтому тело – временное явление, душа – вечное.
4. Душа – подлинная причина существования тела. Это идея жизни. Если душа есть сама жизнь, то она не может быть причастна к смерти.
Платоническая любовь
Виталий Котобород, автора канала „ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ“ — ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИХ, помог нам разобраться в идее платонической любви:
«Платоническая любовь» в современном значении – духовная/эмоциональная связь между людьми.Связь, лишённая физического влечения. Говоря о «платонической любви», люди часто подразумевают чистые и светлые помыслы.
Такое современное значение имеет не столь много общего с Платоном, хоть и основываются на его идеях. Древнегреческий философ действительно исследовал тему любви. Герои «Пира» Платона очень много рассуждают о ней. В том числе и о физическом влечении и его отсутствии.
Однако Платон не даёт однозначного ответа на вопрос «какой должна быть настоящая/правильная любовь». Не вводит такого понятия, как «платоническая любовь». Платон даёт пищу для размышлений, благодаря которой философы ведут бурные дискуссии по сей день.
Также нельзя сказать, что он полностью отвергает физическое влечение к телу. Скорее считает его лишь началом. Примерно об этом нам рассказывает Диотима из «Пира» Платона:
«<…> начав с отдельных проявлений прекрасного, надо всё время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх – от одного прекрасного тела к двум, от двух – ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это – прекрасное».
Государство
Взгляды на устройство государства у Платона утопические, но не лишенные смысла.
Рукопись III века нашей эры, содержащая фрагменты «Государства» ПлатонаРукопись III века нашей эры, содержащая фрагменты «Государства» Платона
Каждый должен заниматься своим делом, земледелец – пахать, кузнец – ковать, воин – сражаться. При этом кузнец не должен выходить за рамки своей профессии и пытаться побыть кем-то другим. Управлять людьми должны философы, личности разумные.
В целом, это и есть лучшее государство в представлении ученого.
В завершение, Платон – это человек, обрисовавший идеальную, стройную картинку мира, которая заставляла самозабвенно мечтать людей, живших тысячи лет после него. Именно он научил смотреть не только на внешние проявления, но и вглубь предмета.
показывать: 10255075100 1—10 из 92
прямая ссылка 25 июля 2015 | 22:08
НЕ герой нашего времени
прямая ссылка 10 января 2015 | 11:43
-Я ухожу -И ты приехала в Брянс чтобы рассказать об этом?
прямая ссылка 14 января 2013 | 01:57
Отчаянные попытки создать серьезную драму
прямая ссылка 02 января 2013 | 21:22
дорогая Люба и Платон
прямая ссылка 18 декабря 2012 | 21:50
Все слишком надуманно, от того и предсказуемо.
прямая ссылка 24 августа 2012 | 19:33
прямая ссылка 23 мая 2012 | 01:51
прямая ссылка 17 марта 2012 | 13:51
Любовь бывает разная
прямая ссылка 15 декабря 2011 | 08:44
прямая ссылка 01 января 2011 | 00:13показывать: 10255075100 1—10 из 92 |
«Идеальное государство» Платона | Официальный сайт Кабардино-Балкарского Государственного Университета им.
 Х.М. БербековаОфициальный сайт Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова
Х.М. БербековаОфициальный сайт Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова
Государство как идея и «реальные государства»
Самое известное учение об идеальном государстве принадлежит великому древнегреческому философу Платону. Чтобы понять суть взглядов на идеально государство, необходимо знать суть его философии в целом. Платон считал необходимым различать обладающие истинным бытием существующие вне времени и пространства идеи и сами вещи, представляющие собой некие бледные копии, воплощения идей. Относительно к государству сказанное означает, что Платон различал государство как идею, совершенное идеальное государство, существующее в мире идей, и реально существующие государства. Согласно Платону, реально существующие государства следует преобразовать таким образом, чтобы они соответствовали идеальному государству, т.е. государству как идее.
Справедливость как основной принцип устройства
идеального государства
Платон считал, что идеальное государство должно быть устроено в соответствии с принципами справедливости. По его мнению, справедливость предполагает, что, во-первых, интересы целого (государства) важнее и выше интересов частного (отдельных индивидов). Во-вторых, принцип справедливости означает, что каждый элемент целого должен выполнять присущие ему функции. В этой связи он делит всё население идеального государства на три сословия: философов-правителей, воинов (стражников) и ремесленников и земледельцев (в это сословие включаются все люди, так или иначе связанные с производством). Они являются носителями трех основных начал государства: разумного (мудрость), яростного (мужество) и вожделеющего. Справедливость заключается в том, чтобы каждое из этих сословий выполняло свои функции и не вмешивалось в дела других. Сословие ремесленников и земледельцев выполняет важные, но всё же «прозаические» функции, поэтому Платон в своем учении практически ничего не говорит о них. За сохранность и здоровье идеального государства отвечают философы и стражники. Поэтому Платон уделяет основное внимание именно этим сословиям.
По его мнению, справедливость предполагает, что, во-первых, интересы целого (государства) важнее и выше интересов частного (отдельных индивидов). Во-вторых, принцип справедливости означает, что каждый элемент целого должен выполнять присущие ему функции. В этой связи он делит всё население идеального государства на три сословия: философов-правителей, воинов (стражников) и ремесленников и земледельцев (в это сословие включаются все люди, так или иначе связанные с производством). Они являются носителями трех основных начал государства: разумного (мудрость), яростного (мужество) и вожделеющего. Справедливость заключается в том, чтобы каждое из этих сословий выполняло свои функции и не вмешивалось в дела других. Сословие ремесленников и земледельцев выполняет важные, но всё же «прозаические» функции, поэтому Платон в своем учении практически ничего не говорит о них. За сохранность и здоровье идеального государства отвечают философы и стражники. Поэтому Платон уделяет основное внимание именно этим сословиям. Здесь уместно заметить, что в учении Платона эти два сословия практически сливаются в один правящий класс, так как философы-правители отбираются из числа наиболее отличившихся стражников. Философов-правителей он называет «совершенными стражами», а стражей – «помощниками правителей и проводниками их взглядов».
Здесь уместно заметить, что в учении Платона эти два сословия практически сливаются в один правящий класс, так как философы-правители отбираются из числа наиболее отличившихся стражников. Философов-правителей он называет «совершенными стражами», а стражей – «помощниками правителей и проводниками их взглядов».
Наиболее важным и сложным является вопрос о том, почему же правящие сословия посвятят свою жизнь служению общему благу? Это, согласно Платону, достигается рядом условий.
- Во-первых, разделением труда. Платон говорит, что всякий человек больше всего заботится о том, что он любит, а любит же больше всего, когда считает, что польза дела – это и его личная польза, и когда находит, что успех дела совпадает с его собственной удачей. А истинные философы как раз и отличаются тем, что больше всего ценят истину, справедливость, благо. Поэтому они и будут заботиться о благе государства, рассматривая это и как собственное благо.
- Во-вторых, образом жизни, который у стражников устроен, говорит Платон, согласно поговорке: «у друзей всё общее».
 В частности, у стражников не должно быть частной и даже личной собственности. Столуются и живут они вместе, как во время военных походов. Необходимые припасы они получают от остальных граждан один раз в год за то, что охраняют их. Им не дозволяется пользоваться золотом и серебром, даже в качестве украшений. Дело в том, что обладание собственностью приводит к раздорам и разрушению единства стражей. Таким образом, специфический образ жизни способствует формированию чувства единства и сплоченности.
В частности, у стражников не должно быть частной и даже личной собственности. Столуются и живут они вместе, как во время военных походов. Необходимые припасы они получают от остальных граждан один раз в год за то, что охраняют их. Им не дозволяется пользоваться золотом и серебром, даже в качестве украшений. Дело в том, что обладание собственностью приводит к раздорам и разрушению единства стражей. Таким образом, специфический образ жизни способствует формированию чувства единства и сплоченности. - В-третьих, целенаправленным воспитанием. Здесь важное значение придается двум моментам. Прежде всего, Платон обращает внимание на роль социального мифа в создании идеального государства. Он говорит, что следует попытаться внушить сначала самим правителям и стражам, а затем и остальным гражданам, что они порождены землей и, что все члены государства – братья и, следовательно, все должны заботиться о своей стране, как о матери, а также друг о друге. Правителям и стражам необходимо внушить, что есть, мол, предсказание, что государство разрушится, если к власти придут люди, не обладающие необходимыми задатками, вследствие чего они должны безжалостно переводить в сословие земледельцев и ремесленников тех своих детей, которые родятся без необходимых задатков.
 Одновременно они должны переводить детей земледельцев и ремесленников, родившихся с необходимыми задатками, в сословие стражей. Платон подчеркивает, что успех в деле создания идеального государства во многом будет зависеть от того, насколько удастся распространить, внушить этот миф. Кроме того, важнейшее значение придается роли искусства в воспитании. Согласно Платону, в идеальном государстве разрешаются только такие произведения и даже жанры искусства, которые формируют необходимые качества. Предлагается даже пересмотреть все прежние мифы и произведения искусства и оставить из них только те, которые соответствуют указанным критериям.
Одновременно они должны переводить детей земледельцев и ремесленников, родившихся с необходимыми задатками, в сословие стражей. Платон подчеркивает, что успех в деле создания идеального государства во многом будет зависеть от того, насколько удастся распространить, внушить этот миф. Кроме того, важнейшее значение придается роли искусства в воспитании. Согласно Платону, в идеальном государстве разрешаются только такие произведения и даже жанры искусства, которые формируют необходимые качества. Предлагается даже пересмотреть все прежние мифы и произведения искусства и оставить из них только те, которые соответствуют указанным критериям.
Философы должны править потому, что только они способны постичь истинное бытие, т.е. истинное благо для государства и всех его членов. Формирование сословия правителей-философов, по Платону, происходит следующим образом. Всем стражам еще в детстве даются предварительные знания в различных областях (счет, геометрия и др.). Одновременно их берут и на войну, чтобы воспитать в них мужество и другие необходимые качества. По достижении двадцати лет те из них, «кто во всем этом – в трудах, в науках, в опасностях – всегда будет выказывать себя самым находчивым», заносятся в «особый список». Отобранные продолжают дальнейшие занятия, и по достижении ими тридцати лет производится второй отбор. «Самые лучшие» еще пять лет обучаются диалектике – «искусству рассуждать». И только после этого они занимают различные государственные должности.
По достижении двадцати лет те из них, «кто во всем этом – в трудах, в науках, в опасностях – всегда будет выказывать себя самым находчивым», заносятся в «особый список». Отобранные продолжают дальнейшие занятия, и по достижении ими тридцати лет производится второй отбор. «Самые лучшие» еще пять лет обучаются диалектике – «искусству рассуждать». И только после этого они занимают различные государственные должности.
Платон понимал, что идеальное государство должно быть закрытым и относительно небольшим по размерам. Оно должно быть закрытым по той причине, что любые ложные ценности могут дезориентировать его население. А небольшим – по той причине, что достаточно эффективно контролировать большое государство практически невозможно. Платон говорил, что «государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает быть единым». Поэтому правители и стражи должны следить за тем, чтобы государство было ни слишком большим и ни слишком маленьким.
Платон верил, что его идеальное государство можно воплотить в реальность. Это можно будет сделать двумя способами. Во-первых, говорил Платон, среди потомков царей случайно могут оказаться философские натуры, которые будут править по справедливости, а граждане начнут охотно выполнять их установления и законы. Во-вторых, придя к власти, философы вышлют из государства всех старше десяти лет, а остальных воспитают на свой лад.
Это можно будет сделать двумя способами. Во-первых, говорил Платон, среди потомков царей случайно могут оказаться философские натуры, которые будут править по справедливости, а граждане начнут охотно выполнять их установления и законы. Во-вторых, придя к власти, философы вышлют из государства всех старше десяти лет, а остальных воспитают на свой лад.
Значение и недостатки учения Платона
Важнейшее значение учения Платона заключается в том, что оно положило начало теориям социального управления в самом широком смысле слова. Вместе с тем недостатки его учения очевидны. Прежде всего, отметим, что никоим образом невозможно доказать, что идея государства где-либо существует. Поэтому и представления о его устройстве, какими бы оригинальными и глубокими они ни были, являются чисто субъективными. Кроме того, очевидно, что нарисованный им образ жизни стражей отнюдь не такой привлекательный. И на вопрос о том, а будут ли сами стражи чувствовать себя счастливыми, Платон уклончиво отвечал, что важнее благо всего государства, а не отдельных его сословий. Стражи, по его мнению, должны чувствовать себя счастливыми в силу того, что выполняют присущие им функции и вносят посильный вклад в общее благо. Надо, говорил Платон, внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела. Наконец, платоновское идеальное государство, по сути, не знает изменений.
Стражи, по его мнению, должны чувствовать себя счастливыми в силу того, что выполняют присущие им функции и вносят посильный вклад в общее благо. Надо, говорил Платон, внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела. Наконец, платоновское идеальное государство, по сути, не знает изменений.
Автор:
Кочесоков Роберт Хажисмелович
плат
Проработав несколько лет в британском Vogue, Платон был приглашен в Нью-Йорк, чтобы работать на покойного Джона Кеннеди-младшего и его политический журнал «Джордж».
Снимая портреты для ряда международных изданий, включая Rolling Stone, New York Times Magazine, Vanity Fair, Esquire, GQ и Sunday Times Magazine, Платон установил особые отношения с журналом Time, выпустив для них более 20 обложек. В 2007 году он сфотографировал премьер-министра России Владимира Путина для обложки журнала Time «Человек года».Это изображение было удостоено 1-й премии на конкурсе World Press Photo.
В 2008 году он подписал многолетний контракт с New Yorker. В качестве штатного фотографа он подготовил несколько масштабных фоторепортажей, два из которых получили награды ASME Awards в 2009 и 2010 годах. Портфолио Платона в Нью-Йорке сосредоточено на таких темах, как армия США, портреты мировых лидеров и Движение за гражданские права.
В 2009 году Платон объединился с Хьюман Райтс Вотч, чтобы помочь им чествовать тех, кто борется за равенство и справедливость в странах, подавляемых политическими силами.Эти проекты привлекли внимание правозащитников из Бирмы, а также лидеров египетской революции. После освещения Бирмы Платон сфотографировал Аунг Сан Су Чжи для обложки Time — через несколько дней после ее освобождения из-под домашнего ареста. В 2011 году Платон был удостоен премии Пибоди за сотрудничество по теме «Гражданское общество в России» с журналом The New Yorker и Human Rights Watch.
Платон опубликовал четыре книги своих работ: РЕСПУБЛИКА ПЛАТОНА [Phaidon Press, 2004], ретроспективу его ранних работ; POWER [Chronicle, 2011], сто портретов самых могущественных мировых лидеров; КИТАЙ: ЧЕРЕЗ СТЕКЛО [The Metropolitan Museum of Art, 2015], в сотрудничестве с The Metropolitan Museum of Art, и SERVICE [Prestel, 2016], посвященное мужчинам и женщинам в вооруженных силах США, их физическим и психологическим ранениям их необыкновенной доблести и неистовых эмоций, которые окружают тех, кто служит.
Платон — коммуникатор и рассказчик, он представлен Вашингтонским бюро ораторов. Его пригласили выступить с основным докладом о лидерстве на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Chanel, Nike, Йельском университете, Оксфордском университете, Уортонском университете, Национальной портретной галерее в Лондоне и Международном центре фотографии в Нью-Йорке. Он также появлялся в ряде телевизионных СМИ, включая Чарли Роуза (PBS), Morning Joe (MSNBC), GPS Фарида Закарии (CNN) и BBC World News.
Работы Платона выставлялись в галереях и музеях как внутри страны, так и за рубежом. Он выставлялся в Нью-Йорке в галереях Мэтью Маркса и Ховарда Гринберга, а также на международном уровне в галерее Colette в Париже, Франция. Историческое общество Нью-Йорка представило персональную выставку фотографий Платона за гражданские права, которые остаются частью постоянной коллекции музея. Другие постоянные коллекции, содержащие фотографии Платона, включают Флоридский музей фотоискусства в Тампе, Флорида, и Музей фотографии Вестлихта в Вене, Австрия и Национальную портретную галерею Шотландии в Эдинбурге.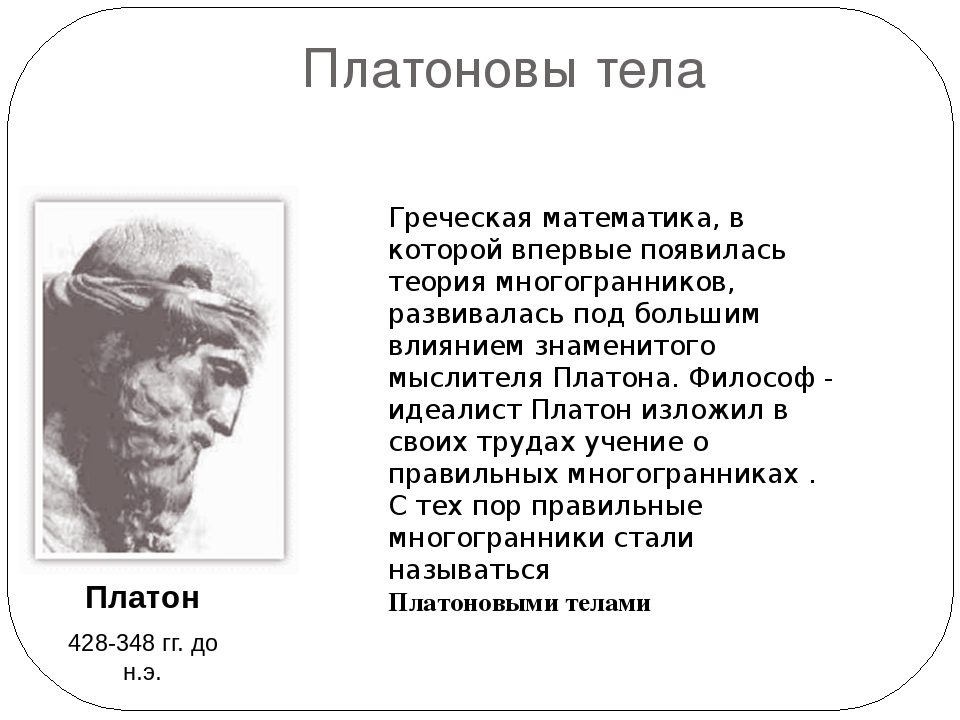
В 2013 году Платон основал некоммерческий фонд The People’s Portfolio. Фонд стремится создать визуальный язык, который преодолевает барьеры, расширяет достоинство, борется с дискриминацией и привлекает общественность к поддержке прав человека во всем мире. Он работает креативным директором Центра гражданских прав и прав человека в Атланте, штат Джорджия.
Платон в настоящее время входит в правление Всемирного экономического форума по вопросам искусства и культуры и руководит Инициативой экономического роста и социальной интеграции.
Работа всей жизни Платона — тема документального фильма Netflix, Abstract: The Art of Design .
Его первый фильм « Мое тело — не оружие» рассказывает о переживших сексуальное насилие во время войны и лауреате Нобелевской премии мира 2018 года докторе Денисе Муквеге.
Platon Photography Интервью: Мастер портрета власти
В своей последней книге Power: Portraits of World Leaders (Chronicle Books) британский фотограф Платон из Нью-Йорка лично знакомится с более чем 100 известными и печально известными главами государств в прошлом и настоящем. Полученные портреты почтительны, проницательны и представлены без осуждения. Он оставляет это на усмотрение зрителя и истории.
Полученные портреты почтительны, проницательны и представлены без осуждения. Он оставляет это на усмотрение зрителя и истории.
Вместо того, чтобы бегать из одной столицы страны в другую, чтобы создать этот знаковый проект, большинство мировых лидеров обратились к нему… в некотором смысле. В течение 12 месяцев государственные деятели и государственные деятели сидели и стояли за Платона в импровизированной студии, которую он собрал в Организации Объединенных Наций. Платон говорит, что одной из самых сложных вещей для него было не испугаться силы, стоящей за его ситтерами — нелегко, когда президент или премьер-министр находится в нескольких футах от вас.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Родился в Лондоне в 1968 году. Платон вырос на греческих островах в семье англичанки, историка искусства, и отца-грека, архитектора. В середине 1970-х семья вернулась в Лондон. Получив с отличием степень бакалавра в области графического дизайна в Центральном колледже искусств и дизайна Сен-Мартена, он получил степень магистра фотографии и изобразительного искусства в Королевском колледже искусств. Эта глубина искусства проявляется в творчестве Платона.Он принадлежит к школе, в которой хороший вкус обусловлен изученным знанием искусства, прошлого и настоящего — музыки, скульптуры, театра и любого другого изобразительного искусства.
Эта глубина искусства проявляется в творчестве Платона.Он принадлежит к школе, в которой хороший вкус обусловлен изученным знанием искусства, прошлого и настоящего — музыки, скульптуры, театра и любого другого изобразительного искусства.
Платон покинул Лондон в 1998 году, проработав несколько лет в передовом журнале покойного Джона Кеннеди-младшего, George . С тех пор Платон снимал портретные и документальные работы для таких изданий, как Rolling Stone, The New York Times Magazine, Vanity Fair, Esquire, GQ, TIME и The New Yorker .Его рекламные работы включают Credit Suisse, Exxon Mobil, Diesel, The Wall Street Journal , Nike, Levi’s, Rolex, Ray-Ban, Tanqueray и Issey Miyake. В 2004 году издательство Phaidon Press опубликовало ранние портреты фотографа в альбоме «» Платона «Республика ».
Как любой великий портретист, Платон способен быстро устанавливать связь со своими объектами, что позволяет зрителю через его картины заглянуть в объект, будь то принц или нищий.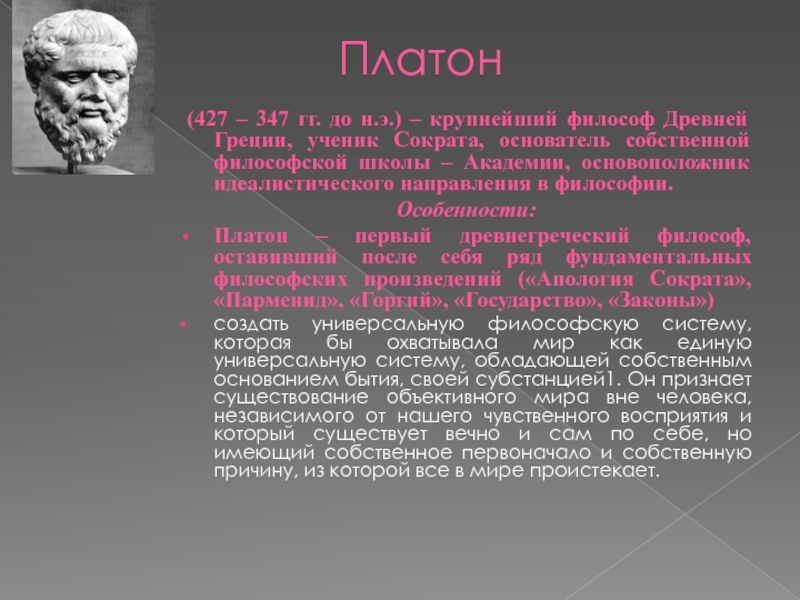 Окна в душу еще никогда не были такими четкими.
Окна в душу еще никогда не были такими четкими.
DPP: Кто придумал вашу книгу « Power »?
Премьер-министр России Владимир Путин.Платон: Это началось с безумной мысли, которая пришла мне в голову в начале того, что мы сейчас называем «Великой рецессией». Стало очевидно, что существует очень мало проблем, которые страна может решить в одиночку, что страны должны начать работать вместе новым и беспрецедентным образом — почти сформировав что-то вроде глобальной администрации. Представьте, если бы они были, кто был бы за столом власти?
Мы представлены вместе с нашими мировыми лидерами под пеленой брендинга, маркетинга и пропаганды.Поэтому я подумал, что в эти напряженные времена мы должны смотреть на наших лидеров как на людей, близко и лично. И затем мы должны взять все эти индивидуальные исследования характера и собрать их вместе, чтобы показать групповую динамику. Что происходит в духе общности, когда они все вместе?
DPP: Как вы воплотили эту идею в реальность?
Платон: Я связался с Дэвидом Ремником, редактором газеты The New Yorker , которому идея понравилась. У меня контракт на журнал.Визуальный редактор Элизабет Бионди очень умно сообщила мне, что я не могу путешествовать по миру, фотографируя каждого мирового лидера, потому что это будет стоить миллионы долларов, но большинство из них действительно приехали в ООН. Это стало идеальной метафорой из-за идеи, что все соберутся вместе, чтобы попытаться исправить то состояние, в котором мы находимся. ООН — единственный форум в мире, где мировые лидеры встречаются в таком масштабе. После 67 встреч с ООН они предоставили мне беспрецедентный исторический доступ.
У меня контракт на журнал.Визуальный редактор Элизабет Бионди очень умно сообщила мне, что я не могу путешествовать по миру, фотографируя каждого мирового лидера, потому что это будет стоить миллионы долларов, но большинство из них действительно приехали в ООН. Это стало идеальной метафорой из-за идеи, что все соберутся вместе, чтобы попытаться исправить то состояние, в котором мы находимся. ООН — единственный форум в мире, где мировые лидеры встречаются в таком масштабе. После 67 встреч с ООН они предоставили мне беспрецедентный исторический доступ.
DPP: Кто придумал вашу книгу « Power »?
DPP: Большинство съемок было запланировано заранее?
Platon: Житель Нью-Йорка написал сотни писем в миссии, пытаясь привлечь их на борт. В итоге только два мировых лидера — из Мексики и Бразилии — заранее согласились сфотографироваться. Остальные сказали либо нет, может быть, либо не ответили. Так что это превратилось в старомодную уличную суету. Я работал в ООН, общался и убеждал, и постепенно проект набирал обороты. Через некоторое время он превратился в частный клуб, в котором все хотели быть членами.Мировые лидеры спрашивали меня: «Почему меня не спрашивают?» Однажды в очереди стояло четверо или пятеро, чтобы их сфотографировать. Все болтали, как будто ждали автобуса.
Я работал в ООН, общался и убеждал, и постепенно проект набирал обороты. Через некоторое время он превратился в частный клуб, в котором все хотели быть членами.Мировые лидеры спрашивали меня: «Почему меня не спрашивают?» Однажды в очереди стояло четверо или пятеро, чтобы их сфотографировать. Все болтали, как будто ждали автобуса.
ДПП: Где устроился?
Платон: Важно отметить, что не все это было сделано в ООН. Я уже сфотографировал Обаму, Путина, Ху Цзиньтао и Джорджа Буша. Я сделал много ключевых на частных заседаниях, но большая часть из них была сделана в ООН. Мы создали крошечную студию примерно в 10 футах от того места, где каждый глава государства обращается к Генеральной Ассамблее.Когда смотришь выступления по телевизору, они оказываются перед стеной из зеленого мрамора. Я был за этой стеной в коридоре, прежде чем они ступили в зеленую комнату, где готовились к своей речи. Им приходилось обгонять меня дважды, так что у меня было два шанса их заполучить.
DPP: Какое освещение было у вас в этом относительно тесном помещении?
Платон: Очень просто. Один стробоскоп Profoto со сквозным зонтом и стандартным бумажным задником. Важно то, как вы это используете. Вся моя этика очень проста.На этом уровне некогда возиться с освещением. Уго Чавес дал мне три секунды. Я снимаю негативную пленку Fuji и Kodak на пленочную камеру Hasselblad, которую мы сканируем с помощью барабанного сканера Isomet. Мое дело, это довольно просто.
Один стробоскоп Profoto со сквозным зонтом и стандартным бумажным задником. Важно то, как вы это используете. Вся моя этика очень проста.На этом уровне некогда возиться с освещением. Уго Чавес дал мне три секунды. Я снимаю негативную пленку Fuji и Kodak на пленочную камеру Hasselblad, которую мы сканируем с помощью барабанного сканера Isomet. Мое дело, это довольно просто.
DPP: Кто придумал вашу книгу « Power »?
DPP: Итак, все дело в том, чтобы запечатлеть решающий момент и соединиться с предметом.
Платон: Я полностью обнажаюсь, и натурщик реагирует на это, и это то, что я фиксирую.Это очень интенсивно. Я не использую штатив. Я держу в руке свой Hasselblad с объективом 120 мм. Я очень близко к их лицам с этим макрообъективом. С Путиным я был в паре дюймов от его носа. То же и с Ахмадинежадом. Это не очень удобное место. Это место, где происходят удивительные вещи. Никто другой не подходит к этим главам государств с таким языком тела. Это создает невероятную энергию.
DPP: Удивительно, что их обработчики позволяют вам подойти так близко.
Платон: Все их советники наблюдают за тем, что я делаю, и каждый спрашивает себя: «Должны ли мы позволить этому случиться?» Даже мировые лидеры смотрят на меня и думают: «Погодите, я никогда раньше не делал этого».Но это то, что придает образу силу. Вот что разрушает созданный ими фасад.
Они сознательно создали эту ауру вокруг себя как часть своего авторитета, и я думаю, что, поскольку мы все в мире боремся, мы все сейчас очень небезопасны. Нам нужно посмотреть им в глаза, чтобы увидеть, каков характер человека, стоящего за брендом, за политикой. Люди слишком долго покупают бренды, не задавая вопросов. Мне ясно, что это не сработало.Вы купили машину. Вы купили дом. Вы купили телевизор с плоским экраном. Это сделало тебя счастливым? Вы купили сообщение у рекламной компании. Вы поняли, что политическая кампания дает понять, что есть надежда, что перемены грядут.
DPP: Кто придумал вашу книгу « Power »?
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
DPP: Так можно ли лучше понять, кем является этот человек, внимательно изучив его портрет?
Платон: Вы не можете передать всю правду на картинке, и всякий, кто говорит, что захватил свою душу, — чушь собачья.Но я думаю, ты сможешь получить настоящий момент. В Путине вы видите это твердое чувство власти. С Каддафи вы чувствуете полное неповиновение. Этот парень собирается драться. Этот вызов пронизывает картину. Лицо Обамы говорит о приходе к власти, потому что я сфотографировал его во время избирательной кампании. В его глазах вы видите человека, прокладывающего очень сложный путь к Белому дому. Он очень думающий, осторожный человек.
DPP: Были ли у вас трудности с кем-нибудь из мировых лидеров?
Платон: Хуже всего было с Николя Саркози, который наотрез отказался сесть за меня.Он был очень агрессивен. Он не пожал мне руку; он не стал бы сидеть на стуле. Он во весь голос кричал на меня и на всю установку: «Qu’est-ce que c’est? Je deteste la photo! » Он ушел в худшем настроении, которое вы только можете себе представить. Когда вы бесите мирового лидера такого калибра, это довольно устрашающе. Я должен помнить, что эти люди не знаменитости. На их плечах действительно большие проблемы. Он единственный, кто отказался сесть. Было несколько других, которых я не мог получить из-за расписания, но в целом все, к кому мы обращались, понимали, что это историческое исследование нынешней глобальной энергетической системы.
Когда вы бесите мирового лидера такого калибра, это довольно устрашающе. Я должен помнить, что эти люди не знаменитости. На их плечах действительно большие проблемы. Он единственный, кто отказался сесть. Было несколько других, которых я не мог получить из-за расписания, но в целом все, к кому мы обращались, понимали, что это историческое исследование нынешней глобальной энергетической системы.
DPP: Хотя вы работаете в гораздо большем масштабе, ваш проект напоминает некоторые исследования Юсуфа Карша, например его портрет Уинстона Черчилля.
Платон: Мне нравится эта фотография. Карш вытащил сигару изо рта Черчилля, что придало ему сердитый взгляд. Когда он это сделал, это не было уловкой; Карш просто предпочел рюмку без сигары, и это раздражало Черчилля. Но никогда не бывает так просто. С этими людьми вы живете в настоящий момент. Нет никакого плана.Никаких уловок. Вы просто пытаетесь найти человеческую связь. Когда я сфотографировал Ахмадинежада, он выступил перед примерно 200 людьми. За кулисами были все его поклонники, и я вместе с его окружением закрепился на этом относительно небольшом пространстве. На секунду он потерял самообладание и смутился, что вызвало зловещую ухмылку. Люди критиковали меня за то, что я проявляю теплоту в его глазах. Реальность такова, что многие мировые лидеры с ужасными достижениями в области прав человека обладают опасной способностью проявлять тепло, вдохновлять людей, мотивировать людей, быть очень обаятельными.Это не двухмерные мультфильмы, на которых диктаторские чудовищные фигуры бьют кулаками или стучат ботинком по столу. Важно смотреть в лицо мировым проблемам такими, какие они есть, а не отступать с безопасного расстояния и называть друг друга именами, как демократы и республиканцы поступают друг с другом, вместо того, чтобы собираться вместе и решать проблемы.
За кулисами были все его поклонники, и я вместе с его окружением закрепился на этом относительно небольшом пространстве. На секунду он потерял самообладание и смутился, что вызвало зловещую ухмылку. Люди критиковали меня за то, что я проявляю теплоту в его глазах. Реальность такова, что многие мировые лидеры с ужасными достижениями в области прав человека обладают опасной способностью проявлять тепло, вдохновлять людей, мотивировать людей, быть очень обаятельными.Это не двухмерные мультфильмы, на которых диктаторские чудовищные фигуры бьют кулаками или стучат ботинком по столу. Важно смотреть в лицо мировым проблемам такими, какие они есть, а не отступать с безопасного расстояния и называть друг друга именами, как демократы и республиканцы поступают друг с другом, вместо того, чтобы собираться вместе и решать проблемы.
DPP: Это очень политический взгляд на вещи. Есть снимок, сделанный Арнольдом Ньюманом много лет назад, о немецком промышленнике Круппе, который использовал рабский труд во время Второй мировой войны. Ньюман поджег его снизу, чтобы он выглядел омерзительным.
Ньюман поджег его снизу, чтобы он выглядел омерзительным.
Платон: Лично я не согласен с этим методом. Я сфотографировал замечательных людей. Я провел день в Бирме с Аунг Сан Су Чжи, но я также сфотографировал некоторые угрозы, от Роберта Мугабе до Муаммара Каддафи, поэтому я был в очень тесном контакте с целым слоем морали. Но я верю, что все, что вам нужно делать, это быть честным и человечным, а их послужной список заслуживает оценки. Я считаю, что для фотографа очень опасно играть в журналистику и ловить кого-то, как это было на обложке Newsweek с Мишель Бахманн.Хотя я не согласен с ней политически, я чувствовал, что это дешевый выстрел. Это уловка.
Эти люди настолько очаровательны своими сумасшедшими послужными списками, что есть на что посмотреть. Вы не знаете, какими они на самом деле являются как личность. Если фотограф собирается скрыть это своей политической точкой зрения, он упускает возможность что-то раскрыть. Когда вы имеете дело с портретом, я думаю, вы должны позволить его личности заполнить пространство. Если он наполнен обаянием, и они сделали ужасные вещи для собратьев, то есть для меня, это самая грозная комбинация, которую вы можете иметь. Слишком легко предположить, что тот, кто каким-либо образом оскорблял людей, будет просто подлым и неспособным почувствовать человеческое тепло. Если они способны проявлять и чувствовать человечность, и они все еще делают эти ужасные вещи с человечеством, тогда, я думаю, это делает их еще хуже.
Если он наполнен обаянием, и они сделали ужасные вещи для собратьев, то есть для меня, это самая грозная комбинация, которую вы можете иметь. Слишком легко предположить, что тот, кто каким-либо образом оскорблял людей, будет просто подлым и неспособным почувствовать человеческое тепло. Если они способны проявлять и чувствовать человечность, и они все еще делают эти ужасные вещи с человечеством, тогда, я думаю, это делает их еще хуже.
DPP: Кто придумал вашу книгу « Power »?
DPP: Вы использовали определенную технику камеры?
Платон: Важно не зацикливаться на технике. Вы должны быть хозяином своих фотографических инструментов, а не рабом их. Это содержание и история, которую вы пытаетесь рассказать. Фотографы могут быть ослеплены наукой и забыть, что весь смысл фотографии — рассказать историю. Лучшие фотографии в истории зачастую не самые технически совершенные, но те, в которых есть что-то, что побуждает нас к действию.В этом сила фотографии.
ДПП: Между вами и испытуемым очень тихо?
Платон: Разные, потому что разные. Иногда они очень общительны. В других случаях вы можете услышать стук булавки. Мугабе был пугающе тихим. Но Джейкоб Зума из Южной Африки рассмеялся. Он смеялся надо мной, потому что к тому моменту я был в бреду и вел себя как сумасшедший. У каждого своя атмосфера. Фотографу никогда не следует с этим связываться. Если вы действительно наблюдательны и позволяете им быть самими собой, вы просто видите этот невероятный цирк психологии прямо перед вашими глазами.
ДПП: Что дальше?
Платон: Сейчас я включаю заднюю передачу. Я сфотографировал сильных мира сего, а теперь собираюсь сфотографировать бессильных, людей, у которых отняли власть. Сейчас вы являетесь свидетелем полного изменения в арабском мире, и все это основано на правах человека. Мы определенно переживаем время силы людей. Теперь, когда технологии позволяют каждому узнавать о том, что происходит в остальном мире, я думаю, что люди поднимаются, делая ставку на
тер или хуже, и пытаются отстоять свою позицию.
DPP: Вопрос в том, если некоторые из этих людей поднимутся на влиятельные должности, попадут ли они в сценарий Animal Farm . В книге Оруэлла, когда свиньи получили власть, они стали похожи на фермеров, против которых они протестовали.
Платон: Я уверен, что власть искажает. Положение власти меняет стойки ворот. Без помощи людей не попасть. Эта помощь уже манипулирует вашей чистой записью. Дело не в том, что люди внезапно становятся коррумпированными, но чтобы добраться до вершины успеха, вы уже испорчены с первого дня, когда входите в комнату.
Чтобы увидеть больше фотографий Платона, посетите сайт platonphoto.com.
Первоначально опубликовано 29 ноября 2011 г.
Платон (Антониу) Фотограф | Все о фото
Платон родился в Лондоне в 1968 году и вырос на Греческих островах, пока его семья не вернулась в Англию в 1970-х годах. Он учился в Школе искусств Св. Мартина и, получив степень бакалавра с отличием в области графического дизайна, продолжил получать степень магистра фотографии и изобразительного искусства в Королевском колледже искусств.Проработав несколько лет в британском Vogue, его пригласили в Нью-Йорк поработать на покойного Джона Кеннеди-младшего и его политический журнал «Джордж». После съемок портретов для ряда международных изданий, включая Rolling Stone, New York Times Magazine, Vanity Fair, Esquire, GQ и Sunday Times Magazine, Платон установил особые отношения с журналом Time, выпустив более 20 обложек.
В 2007 году Платон сфотографировал премьер-министра России Владимира Путина для обложки журнала Time «Человек года».Это изображение было удостоено 1-й премии на конкурсе World Press Photo. В 2008 году он подписал многолетний контракт с New Yorker. В качестве штатного фотографа он подготовил серию крупномасштабных фотоэссе, два из которых были удостоены награды ASME Awards в 2009 и 2010 годах. В портфолио Платона нью-йоркцев много тем, включая инаугурацию президента Обамы, вооруженные силы США, портреты мировых лидеров. и Движение за гражданские права.
В следующем году Платон объединился с Хьюман Райтс Вотч, чтобы помочь им чествовать тех, кто борется за равенство и справедливость в странах, подавляемых политическими силами.Эти проекты привлекли внимание правозащитников из Бирмы, а также лидеров египетской революции. После освещения Бирмы Платон сфотографировал Аунг Сан Су Чжи для обложки Time — через несколько дней после ее освобождения из-под домашнего ареста.
В 2011 году Платон был удостоен престижной премии Пибоди за сотрудничество по теме «Гражданское общество в России» с The New Yorker Magazine и Human Rights Watch. Первая монография Платона «Республика Платона» была опубликована в 2004 году издательством Phaidon Press.Одновременно с публикацией работа была выставлена на международном уровне в Лондоне в бывшей галерее Saatchi, а также в Milk Gallery в Нью-Йорке. Его вторая книга «Сила» — собрание портретов более 100 мировых лидеров — была опубликована в 2011 году издательством Chronicle и после ее успеха была выбрана Apple для выпуска в качестве приложения. В книгу вошли портреты Барака Обамы, Махмуда Ахмадинежада, Дмитрия Медведева, Биньямина Нетаньяху, Уго Чавеса, Махмуда Аббаса, Тони Блэра, Роберта Мугабе, Сильвио Берлускони и Муаммара Каддафи.
В последние годы публичные выступления стали играть важную роль в карьере Платона как коммуникатора и рассказчика. Он был приглашен в качестве основного докладчика на Всемирный экономический форум в Давосе, Йельском университете, Лондонскую школу экономики, Национальную портретную галерею в Лондоне и Международный центр фотографии в Нью-Йорке. Он также появлялся в ряде телевизионных СМИ, включая Чарли Роуза (PBS), Morning Joe (MSNBC), GPS Фарида Закарии (CNN) и BBC World News.
В период с 2011 по 2013 год работы Платона выставлялись в галереях как внутри страны, так и за рубежом. Он выставлялся в Нью-Йорке в галереях Мэтью Маркса и Ховарда Гринберга, а также на международном уровне в галерее Colette в Париже, Франция. Историческое общество Нью-Йорка также представило персональную выставку фотографий Платона за гражданские права, которые остаются частью постоянной коллекции музея. Другие постоянные коллекции, содержащие фотографии Платона, включают Флоридский музей фотоискусства в Тампе, Флорида и Музей фотографии Вестлихта в Вене, Австрия.Рекламные кредиты Platon включают Фонд Организации Объединенных Наций, Credit Suisse Bank, Exxon Mobil, Diesel, The Wall Street Journal, Motorola, Nike, Converse, Verizon, Vittel, Levi’s, IBM, Rolex, Ray-Ban, Tanqueray, Kenneth Cole, Issey Miyake. , Moschino, Timex и Bertelsmann и др. Платон живет в Нью-Йорке с женой, дочерью и сыном.
(Источник: www.platonphoto.com)
Воссоздайте стиль Платоновского портрета Сатья Наделлы для WIRED
Платон — широко известный британский фотограф-портретист.В его портфолио среди прочего есть изображения президента России Владимира Путина, бывшего президента США Барака Обамы и пугающий портрет революционного председателя Ливии Муаммара Каддафи. В его книге «Сила» представлены портреты более 100 известных и печально известных, бывших и нынешних глав государств.
Портреты Платона восхищаются своей простотой и яркостью. В интервью журналу milkbooks он описывает происхождение своего стиля:
«Я страдаю дислексией.Мои картинки делают что-то простое из чего-то сложного, возможно, потому, что я действительно не могу работать с множеством сложных вещей на странице. Мое упрощение мощной графической формы хорошо подходит для обложек журналов и делает изображения выделяющимися. Я как будто создаю логотип чьего-то лица ».
Вот шаги к созданию этого портрета в стиле Платона.
Настройка освещения
Platon в основном использует простую схему освещения, состоящую из одного стробоскопа с сильным рассеиванием, который он помещает впереди и немного выше объекта.Я не был уверен в том, какое именно оборудование он использовал для съемки обложки WIRED. Я сделал предположение и разместил две черные панели слева и справа от объекта, чтобы получить более глубокий градиент тени на лице. Обязательно включите отражение света в глазах объекта.
Настройка проста, теперь вы можете уловить нужный момент. Как только вы закончите, перейдем к Photoshop.
Постобработка
Есть три основных аспекта редактирования, которое мы собираемся сделать: высокая контрастность, сдержанный торс и широкие блики.
Сначала добавьте черно-белый корректирующий слой.
Затем создайте слой кривых и придайте ему отчетливую s-образную форму для контраста.
Чтобы направить фокус на выражение лица, добавьте корректирующий слой яркости и контрастности и замаскируйте область туловища.
Для тонких деталей и бликов в волосах, глазах и бровях добавьте четкости с помощью панели Camera Raw и замаскируйте их, чтобы затронуть только определенные области.
Для некоторых портретов полезно перетащить средние тона вверх, чтобы они проступали как в тени, так и в светах. В данном случае я решил не делать этого, но вот как это повлияет на изображение:
Затемните внешние области лица инструментом затемнения, чтобы усилить градиент тени.
В качестве последнего штриха объедините слои, удерживая нажатой клавишу alt. Выберите новый слой и перейдите в Filter> Other> High Pass и установите ползунок так, чтобы контуры деталей лица были едва видны.Установите режим наложения нового слоя на Overlay, чтобы создать слегка сияющий бронзовый оттенок.
Вот и все. Наклейте на него WIRED логотип, и все готово.
Знакомьтесь, Платон: мастер-фотограф — MILK Blog
Работа с графическим фоном была лучшим моментом для моей фотографии: это научило меня ценить дизайн и понимать, откуда приходят арт-директора. Во многих отношениях я до сих пор считаю себя графическим дизайнером или арт-директором не меньше фотографа.Некоторые фотографы, работающие для журналов, могут бороться с шрифтом, который помещается вокруг или на изображении. Я это понимаю, для меня это естественно.
Я страдаю дислексией. Мои картинки делают что-то простое из чего-то сложного, возможно, потому, что я действительно не могу работать с множеством сложных вещей на странице. Мое упрощение до мощной графической формы хорошо подходит для обложек журналов и делает изображения выделяющимися. Я как будто создаю логотип с чьим-то лицом.
Самое главное — это люди. Для меня это не столько фотография, сколько возможность пообщаться с людьми, изучить их и немного узнать их. Я записываю то, что нахожу на пленку. Я никогда не предполагаю, что снимок, который я делаю, является универсальной правдой — половина этого — это я, мое решение нажать на кнопку затвора, то, что я сказал им перед тем, как это сделать. Это то, что произошло между нами. Портретная работа — очень странная работа.
Часто вы работаете в худших условиях.Когда я сфотографировал Путина, было шокирующим, насколько сложно было туда добраться. Все, что касается Кремля, обхода охранников и протокола, везут на его частную дачу в подмосковном лесу; это было похоже на фильм о холодной войне. И я должен быть уверен, что даю журналу Time то, что им нужно, при этом убедившись, что это хорошая картина по моим меркам; и вы должны достичь этого за те семь минут, которые у вас есть, чтобы поработать с ним, пройдя весь этот путь. Теперь этот парень разносит журналистов на завтрак, а я совсем не разбираюсь в том, что делаю, я полностью интуитивен.Так что я обращаюсь с ним по-человечески — это все, что я могу сделать. Я должен честно сказать о своих сильных сторонах и особенно о своих слабостях.
Вы можете прочитать картинку по-разному. С фотографией Путина половина людей в России сказала, что я сделал его слишком гламурным, а другая половина сказала, что я сделал его слишком холодным. Он мачо, крутой парень, не пушистый и не обаятельный, но с тихой харизмой. Мы говорили о Beatles, моей маме. Это было по-человечески, и мы посмеялись. Моя фотография была об этом столько же, сколько о нем как о человеке, потому что я так к нему отношусь.Поэтому, когда я взял его сидящим на этом стуле, слегка глядя на него, низкий угол исходил из чувства смирения, когда я смотрел на кого-то большего, чем жизнь.
Я стреляю из Hasselblad, и если я стою над кем-то, это пугает их. Итак, я научился садиться на пол и болтать с людьми, и это заставляет людей наклоняться вперед; они перестают чувствовать себя неуверенно и чувствуют, что все под контролем. Когда они становятся более уверенными, магия начинает проявляться. И этот более низкий угол также дает интересную точку зрения.
В начале моей карьеры меня арт-режиссировали все — арт-директор, главный редактор и, конечно, субъекту что-то могло не нравиться. И вдобавок к этому теперь у нас есть публицисты, которые следят за каждым моим шагом. «Какой объектив вы используете? Как ты скатываешься? Нам нужен только смайлик! Я не хочу этого, я не хочу этого! » Я узнал, что с этим нельзя бороться, нужно побеждать с обаянием, иначе вы поддержите всех и ничего не получите.Вы пытаетесь завоевать доверие, насколько это возможно, предлагая то, что им нравится, но в то же время верно для вас самих. В конце концов, вы должны быть верны себе. Образы, которые вы им даете, часто исчезают, но те, которые соответствуют вашим инстинктам, в конечном итоге оказываются резонирующими.
Работа с The New Yorker унизительна; это учит меня и делает меня лучшим фотографом. Все, что я снимаю, я должен заранее прочитать эссе на тридцати страницах. Но мне это нравится: я жажду учиться, хочу, чтобы меня бросили в самый конец.Мир фотографов-знаменитостей, которые становятся почти больше, чем объекты съемки, — опасное положение для фотографа. Это не я, и я этого не хочу. Я хочу быть скромным, стремящимся учиться. Некоторые люди приходят на съемки немного напуганными вами, и это ужасно. Я хочу быть запуганным. Тогда я более наблюдательный. Это не должно касаться меня и моего стиля. Мне нужно быть ниже. Вот как мне нравится работать. Мне нужно много работать, чтобы люди не приходили с предвзятыми идеями.
Есть люди, которых я действительно хочу снимать, но которых я еще не снимал. Джордж Буш-младший — один. Раньше я хотел, чтобы люди были на пике своих возможностей, но теперь мне интереснее подтолкнуть людей вверх или вниз. По пути наверх это еще до того, как на них попадут все камеры, и вы увидите их в более наивной форме; и по пути вниз они могут оглядываться назад с гордостью или раскаянием, что интересно, и они открываются. Они часто говорят мне что-то в чате, потому что я не журналист.
Дело не только в влиятельных людях. Я часто возвращаюсь на греческие острова, где работаю над портретами жителей деревни, откуда приехала моя семья. Это старые и молодые, фермеры и рыбаки, дети. Для меня это, пожалуй, самая стимулирующая ситуация — вам нужно еще усерднее работать с этими людьми, которых не волнует продвижение по службе, освещение в прессе и тому подобное. Там старушка может быть такой же крутой, как Путин. Также приятно сфотографировать фермера в старой одежде и с размятыми грязными ногтями после того, как сфотографировал множество людей в костюмах.Я жажду этого.
Рисунки Ван Гога преследуют меня, и я очень хочу сделать что-то подобное с фотографией. Есть тактильные качества. Иногда нужно быть более абстрактным, чтобы сказать правду — рассказывать о чем-то по ощущениям, которые вы сообщаете, а не просто составлять простой документ. Ощущения в произведении могут быть такими яркими и реальными, хотя в простом смысле это может не походить на что-то. Моя задача — не только показать, как кто-то выглядит на моих портретах, но и понять, каково это встретить, потрогать их и что они заставили меня почувствовать.Это эмоциональный материал.
Platon Цитата о простоте в фотографии: ‘Just Go for the Core’
Урок простоты в фотографии прямо из уст блестящего фотографа-портретиста Платона
Я впервые помню, как увидел фотографию британско-греческого фотографа Платона, это был его знаменитый черно-белый портрет Уилли Нельсона, обнимающего свою гитару, я думаю, это было на обложке Texas Monthly .От грубой, но изысканной резкости и красоты этого портрета у меня перехватило дыхание.
Недавно я обнаружил это видео о Платоне из Netflix и просидел почти 45 минут, полностью потрясенный, когда Платон раскрывает свои методы работы, свое прошлое и свою философию.
Как человек, который постоянно изо всех сил пытается найти простоту и почти минималистичную направленность моих собственных работ, меня захватило то, что Платон сказал о теме простоты в своей фотографии.
Совет Платона по поиску простоты в фотографической композиции
Мой отец делал эти прекрасные рисунки пером и тушью.
— Цитата из аннотации: Искусство дизайна | Платон: Фотография на Netflix
И я вырос с такой черно-белой эстетикой в голове.
Это было так смело.
Я провел большую часть своей сознательной жизни в темноте, с горящим красным светом,
пытался найти этот визуальный язык.
[Указывает на один из рисунков отца] Если нужно, то он там.
Если в этом нет необходимости, его там нет.
Итак, избавьтесь от этого, упростите.
Просто уходи. . . для ядра.
Перейдите к 11:39, чтобы увидеть цитату, но обязательно посмотрите видео целиком.Он полон золотых самородков.
Книги Платона доступны на Amazon
Сервис: Platon
(2016)
Сила: портреты мировых лидеров
(2011)
Спасибо за чтение.
Не забудьте посетить меня в Facebook, Instagram или Pinterest или на моем веб-сайте keithdotson.com.
~ Кейт
Примечание: Это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки Amazon. Я могу получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
СвязанныеЭго-борьба самых влиятельных лидеров мира для портрета
«Мне безразлично, кто они такие», — говорит он. «Все, что имеет значение, — это хороший снимок или плохой. Это все, что меня волнует».
Хорошая картинка для него вращается вокруг мгновения. Взгляд, вздох. Что-то, что отодвигает фасад и раскрывает личность объекта.
«Фотография — это просто техника, это грамматика, но никогда не содержание», — говорит он.
Конгрессмен Бобби Раш — бывший «Черная пантера» — был одним из людей, сфотографированных для сериала «Гражданские права» в журнале The New Yorker . Он сказал Wired, что способность Платона уловить человечность во всех своих подданных — это то, чем он восхищается больше всего.
«Он может взять превратности нашего обширного человеческого опыта и запечатлеть их одним выстрелом», — говорит он. «Он создает общий язык, на котором мы можем идентифицировать себя и на который можем реагировать».
Найти этот момент и найти общий язык сложнее с одними людьми и легче с другими.Генеральный директор Microsoft Стив Баллмер, как и Цукерберг, сопротивлялся. Платон говорит, что Баллмер вошел и немедленно попытался установить свою власть.
«Я сказал ему:« Давай проясним одну вещь. Я совсем не боюсь тебя. Я не боюсь, но я восхищаюсь тобой ». Как только я сказал эти две вещи, он был моим, — говорит Платон. «Это было как в случае с президентом. Это была очень знакомая территория».
В результате получилась неотразимая и нехарактерная картина, на которой Баллмер смотрит боком с закрытыми глазами.На многих фотографиях, которые Платон сделал для портфолио Wired, показаны технологические лидеры в позах и с выражениями лиц, которых мы никогда не видели.
Платон, которому только что исполнилось 45 лет, не всегда жесток. Еще он очень обаятельный и может завязать разговор с кем угодно. Есть известная история о том, как он использовал общую любовь к Битлз, чтобы сломать лед в отношениях с Путиным, и в интервью, и в выступлениях он четко формулирует и готовит.
Мэри-Энн Голон была оператором фотографии в TIME , которая назначила портрет Путина.Она говорит, что всегда восхищалась способностью Платона работать с людьми.
«У него удивительное присутствие и личность, и он действительно фантастически успокаивает людей», — говорит она.
Голон, которая сейчас является помощником главного редактора и главным фотографом в The Washington Post , говорит, что помнит еще одну обложку TIME , которую он снял вместе с Арнольдом Шварценеггером и Майклом Блумбергом. Просматривая его дубль, она говорит, что на предыдущих фотографиях два лидера были скованы, но со временем начали ослабевать.
«Они начали шутить, на что мы и надеялись», — говорит она. «Вы могли видеть, что он творит свою магию».
Алексис Оганян, соучредитель Reddit, сказал Wired, что работать с Платоном весело, и назвал его «вспыльчивым». Он говорит, что был унижен, когда его сфотографировали, и вместо того, чтобы драться с ним, хотел сделать все, что в его силах, чтобы помочь Платону сделать хороший снимок.
«Это действительно поразило меня, когда я понял, что [такие люди, как президент Обама] были в том же положении, когда их фотографировал один и тот же фотограф», — говорит Оганян.«Несомненно, это был момент синдрома самозванца».
Не так для Платона. Он говорит, что видит Оганяна и других технологических лидеров, которых он фотографировал, наравне с любым из влиятельных маклеров, которых он когда-либо фотографировал. В то время как люди используют Facebook и Twitter для свержения президентов, технологические лидеры могут затмить традиционную политическую элиту.
«Они действительно наделили людей инструментами, с помощью которых наши лидеры подотчетны», — говорит Платон.

 Идеалистическая формула такова: «Задержите все политические перемены!» Перемены — зло, покой божественен 6.1. Задержать все перемены можно в том случае, если государство создано как точная копия его оригинала, то есть формы или идеи города-государства. Если бы нас спросили, как этого достичь, мы могли бы ответить натуралистической формулой: «Назад к природе!» Назад к подлинному государству наших праотцов, самому древнему государству, построенному в соответствии с человеческой природой и потому стабильному. Назад к родовой патриархии времён, предшествовавших упадку, назад к естественному классовому господству немногих мудрых над многими невежественными.
Идеалистическая формула такова: «Задержите все политические перемены!» Перемены — зло, покой божественен 6.1. Задержать все перемены можно в том случае, если государство создано как точная копия его оригинала, то есть формы или идеи города-государства. Если бы нас спросили, как этого достичь, мы могли бы ответить натуралистической формулой: «Назад к природе!» Назад к подлинному государству наших праотцов, самому древнему государству, построенному в соответствии с человеческой природой и потому стабильному. Назад к родовой патриархии времён, предшествовавших упадку, назад к естественному классовому господству немногих мудрых над многими невежественными.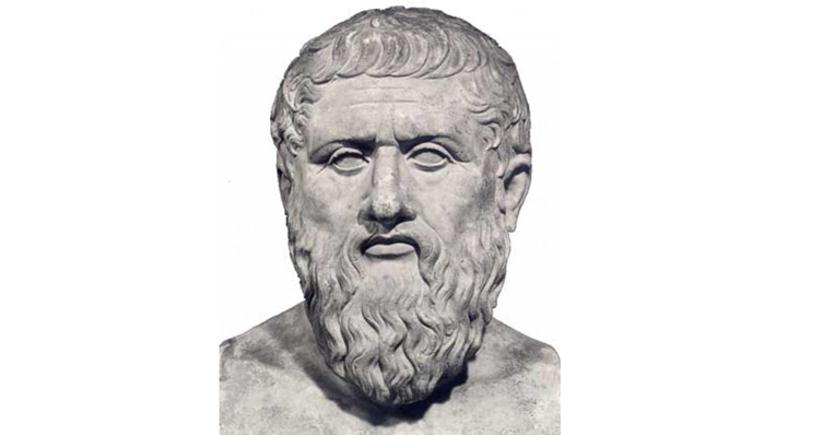
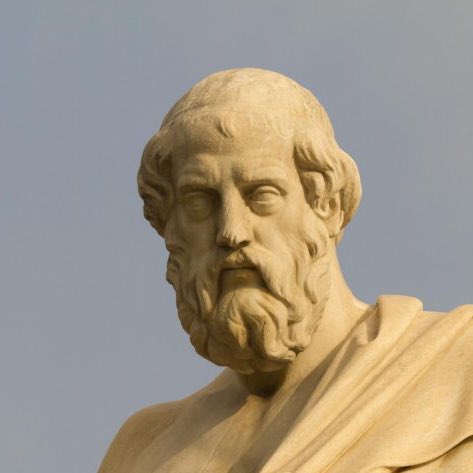 Его целью должна быть экономическая автаркия: ведь иначе правители или будут зависеть от торговцев, или сами станут торговцами. Первая альтернатива подорвала бы их власть, вторая — их единство и стабильность государства.
Его целью должна быть экономическая автаркия: ведь иначе правители или будут зависеть от торговцев, или сами станут торговцами. Первая альтернатива подорвала бы их власть, вторая — их единство и стабильность государства. Например, Р. Кроссман, критическая установка которого видна в замечании о том, что «философия Платона — наиболее яростная и основательная из всех известных в истории нападок на либеральные идеи» 6.2, по-видимому, все ещё верит, что план Платона состоял в «построении совершенного государства, каждый гражданин которого был бы действительно счастлив». Другой пример — это Ч. Джоуд, который довольно глубоко анализирует сходство платоновской программы и фашизма, однако при этом утверждает, что между ними имеются и фундаментальные отличия: ведь в платоновском наилучшем государстве «обычный человек… достигает того счастья, которое соответствует его природе», а, кроме того, это государство построено на идеях «абсолютного блага и абсолютной справедливости».
Например, Р. Кроссман, критическая установка которого видна в замечании о том, что «философия Платона — наиболее яростная и основательная из всех известных в истории нападок на либеральные идеи» 6.2, по-видимому, все ещё верит, что план Платона состоял в «построении совершенного государства, каждый гражданин которого был бы действительно счастлив». Другой пример — это Ч. Джоуд, который довольно глубоко анализирует сходство платоновской программы и фашизма, однако при этом утверждает, что между ними имеются и фундаментальные отличия: ведь в платоновском наилучшем государстве «обычный человек… достигает того счастья, которое соответствует его природе», а, кроме того, это государство построено на идеях «абсолютного блага и абсолютной справедливости». Поэтому Дж. Филд, например, считает необходимым предостеречь читателей: «мы поймём Платона совершенно неверно, если будем считать его революционным мыслителем». Конечно, это так, и было бы бессмысленно об этом говорить, если бы не была так широко распространена тенденция представлять Платона как революционного или, по крайней мере, как прогрессивного мыслителя. Однако и сам Филд не свободен от этой веры в Платона: ведь когда он в дальнейшем говорит, что Платон был «ярым противником новых губительных тенденций» своего времени, то становится ясно, что он с готовностью соглашается с платоновским свидетельством о губительности этих новых тенденций. Враги свободы всегда обвиняли её защитников в тяге к разрушению. И почти всегда им удавалось убедить в этом простодушных и благонамеренных сограждан.
Поэтому Дж. Филд, например, считает необходимым предостеречь читателей: «мы поймём Платона совершенно неверно, если будем считать его революционным мыслителем». Конечно, это так, и было бы бессмысленно об этом говорить, если бы не была так широко распространена тенденция представлять Платона как революционного или, по крайней мере, как прогрессивного мыслителя. Однако и сам Филд не свободен от этой веры в Платона: ведь когда он в дальнейшем говорит, что Платон был «ярым противником новых губительных тенденций» своего времени, то становится ясно, что он с готовностью соглашается с платоновским свидетельством о губительности этих новых тенденций. Враги свободы всегда обвиняли её защитников в тяге к разрушению. И почти всегда им удавалось убедить в этом простодушных и благонамеренных сограждан. Эта тенденция начинается с английского перевода названия диалога Платона «Государство» — «Republic». Едва увидев этот заголовок, можно подумать, что автор, должно быть, либерал, если не революционер. Однако «Republic» — это просто английский вариант латинского перевода греческого слова, которое вовсе не предполагает такого рода ассоциаций и которое правильнее было бы перевести как «Конституция», «Город-государство» или «Государство». Несомненно, традиционный английский перевод названия этого диалога — «Republic» — немало содействовал общему убеждению, что Платон не мог быть реакционером.
Эта тенденция начинается с английского перевода названия диалога Платона «Государство» — «Republic». Едва увидев этот заголовок, можно подумать, что автор, должно быть, либерал, если не революционер. Однако «Republic» — это просто английский вариант латинского перевода греческого слова, которое вовсе не предполагает такого рода ассоциаций и которое правильнее было бы перевести как «Конституция», «Город-государство» или «Государство». Несомненно, традиционный английский перевод названия этого диалога — «Republic» — немало содействовал общему убеждению, что Платон не мог быть реакционером. В настоящей главе я исследую идею Справедливости, в трёх следующих — учение о том, что править должны мудрейшие и лучшие, а также проанализирую идеи Истины, Мудрости, Блага и Красоты.
В настоящей главе я исследую идею Справедливости, в трёх следующих — учение о том, что править должны мудрейшие и лучшие, а также проанализирую идеи Истины, Мудрости, Блага и Красоты. Если Платон, говоря о «справедливости», имел в виду нечто подобное, то моё утверждение о тоталитарности его программы было бы ошибочным и были бы правы все, кто считает, что в основе платоновской политики лежит вполне приемлемый гуманизм. Однако в действительности Платон, говоря о «справедливости», понимал её совершенно иначе.
Если Платон, говоря о «справедливости», имел в виду нечто подобное, то моё утверждение о тоталитарности его программы было бы ошибочным и были бы правы все, кто считает, что в основе платоновской политики лежит вполне приемлемый гуманизм. Однако в действительности Платон, говоря о «справедливости», понимал её совершенно иначе.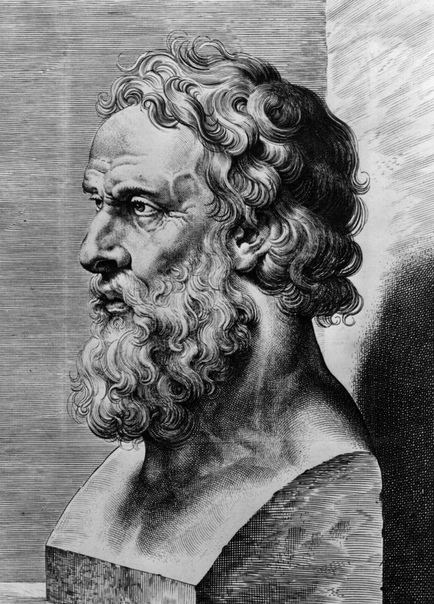 По традиции его подзаголовком считают слова «О справедливости». Исследуя природу справедливости, Платон использует метод, о котором упомянуто в предыдущей главе 6.5. Прежде всего он старается выявить идею Справедливости в государстве, а затем предпринимает попытку применить полученный результат к индивиду. Нельзя сказать, что вопрос Платона «Что есть справедливость?» немедленно получает ответ. Этот ответ даётся только в книге IV
По традиции его подзаголовком считают слова «О справедливости». Исследуя природу справедливости, Платон использует метод, о котором упомянуто в предыдущей главе 6.5. Прежде всего он старается выявить идею Справедливости в государстве, а затем предпринимает попытку применить полученный результат к индивиду. Нельзя сказать, что вопрос Платона «Что есть справедливость?» немедленно получает ответ. Этот ответ даётся только в книге IV Однако не будет большого вреда, если два работника поменяются местами. «Но… когда ремесленник или кто-либо другой, делец по своим природным задаткам… попытается перейти в сословие воинов, или когда кто-нибудь из воинов постарается проникнуть в число членов совета или в стражи… тогда… такая замена и вмешательство не в своё дело — гибель для государства». Из этого аргумента, тесно связанного с принципом, согласно которому ношение оружия — классовая привилегия, Платон делает заключительный вывод о том, что любые перемены или взаимопроникновение трёх классов несправедливы и, напротив, справедливо, «если каждое из трёх его сословий выполняет в нём своё дело». Это заключение подтверждается и резюмируется немного позже: «Каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять своё дело, когда каждое из имеющихся в нас [начал] выполняет свое». Таким образом, Платон отождествляет справедливость с властью класса и классовыми привилегиями: ведь принцип, по которому каждому классу надлежит заниматься своим собственным делом, если сказать кратко и по существу, означает следующее: государство справедливо, если правители правят, рабочие работают, а рабы остаются рабами 6.
Однако не будет большого вреда, если два работника поменяются местами. «Но… когда ремесленник или кто-либо другой, делец по своим природным задаткам… попытается перейти в сословие воинов, или когда кто-нибудь из воинов постарается проникнуть в число членов совета или в стражи… тогда… такая замена и вмешательство не в своё дело — гибель для государства». Из этого аргумента, тесно связанного с принципом, согласно которому ношение оружия — классовая привилегия, Платон делает заключительный вывод о том, что любые перемены или взаимопроникновение трёх классов несправедливы и, напротив, справедливо, «если каждое из трёх его сословий выполняет в нём своё дело». Это заключение подтверждается и резюмируется немного позже: «Каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять своё дело, когда каждое из имеющихся в нас [начал] выполняет свое». Таким образом, Платон отождествляет справедливость с властью класса и классовыми привилегиями: ведь принцип, по которому каждому классу надлежит заниматься своим собственным делом, если сказать кратко и по существу, означает следующее: государство справедливо, если правители правят, рабочие работают, а рабы остаются рабами 6. 7. Итак, мы видим, что платоновское понятие справедливости в корне отличается от нашего обычного взгляда на справедливость — в том виде, как мы его ранее описали. Платон называет «справедливой» классовую привилегию, в то же время мы обычно подразумеваем под справедливостью отсутствие такой привилегии. Однако к этому различие не сводится. Мы имеем в виду равенство по отношению к индивидам, в то время как Платон рассматривает справедливость не как отношение между индивидами, а как свойство целого государства, основанного на отношениях между классами. Государство справедливо, если оно здорово, сильно, едино, то есть стабильно.
7. Итак, мы видим, что платоновское понятие справедливости в корне отличается от нашего обычного взгляда на справедливость — в том виде, как мы его ранее описали. Платон называет «справедливой» классовую привилегию, в то же время мы обычно подразумеваем под справедливостью отсутствие такой привилегии. Однако к этому различие не сводится. Мы имеем в виду равенство по отношению к индивидам, в то время как Платон рассматривает справедливость не как отношение между индивидами, а как свойство целого государства, основанного на отношениях между классами. Государство справедливо, если оно здорово, сильно, едино, то есть стабильно.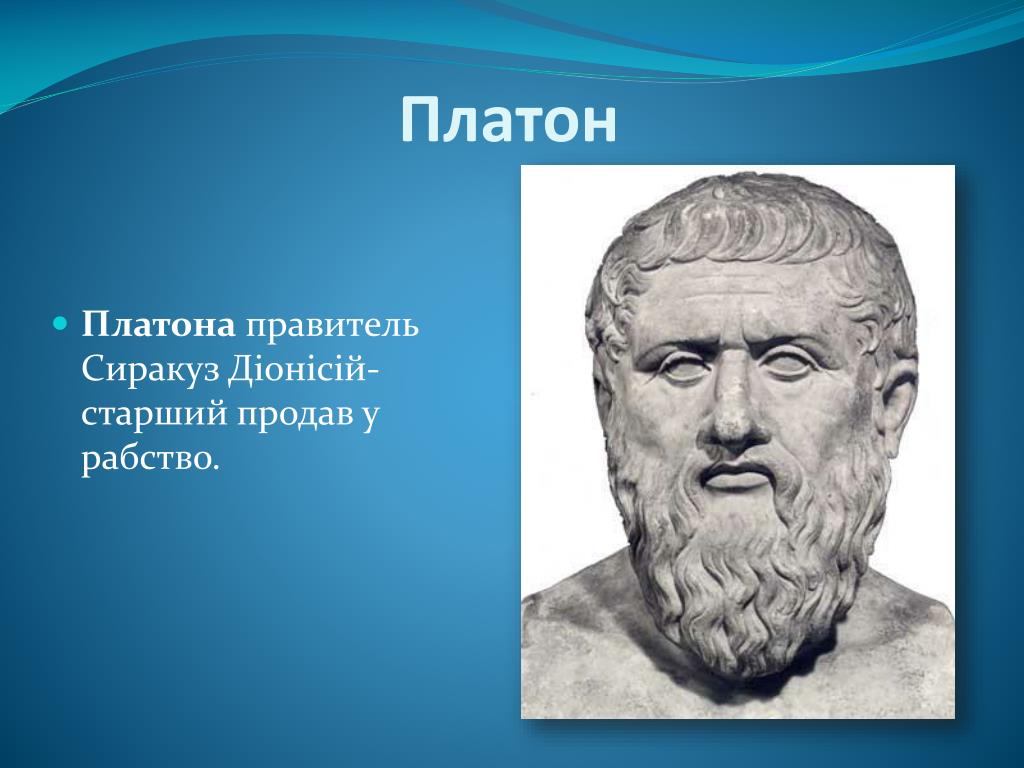 Так вот в основе платоновского определения справедливости лежит требование тоталитарного классового правления и решение воплотить его в жизнь.
Так вот в основе платоновского определения справедливости лежит требование тоталитарного классового правления и решение воплотить его в жизнь.
 Второе учитывает степень, в которой люди обладают добродетелью, надлежащим воспитанием и здоровьем. Платон утверждает, что пропорциональное равенство составляет «политическую справедливость».) Рассматривая принципы демократии, Аристотель говорит, что «основное начало демократического права состоит в том, что равенство осуществляется в количественном арифметическом отношении, а не на основании достоинства». Всё это, разумеется, не является только личным представлением Аристотеля о значении справедливости или только описанием способа употребления этого термина в духе Платона, сложившимся под влиянием «Горгия» и «Законов». Это, скорее, выражение всеобщего, древнего и широко распространённого в Древней Греции использования слова «справедливость» 6.10.
Второе учитывает степень, в которой люди обладают добродетелью, надлежащим воспитанием и здоровьем. Платон утверждает, что пропорциональное равенство составляет «политическую справедливость».) Рассматривая принципы демократии, Аристотель говорит, что «основное начало демократического права состоит в том, что равенство осуществляется в количественном арифметическом отношении, а не на основании достоинства». Всё это, разумеется, не является только личным представлением Аристотеля о значении справедливости или только описанием способа употребления этого термина в духе Платона, сложившимся под влиянием «Горгия» и «Законов». Это, скорее, выражение всеобщего, древнего и широко распространённого в Древней Греции использования слова «справедливость» 6.10.

 Эгалитаризм был заклятым врагом Платона, с которым он намерен был расправиться. Нет сомнения в искренности его веры в то, что эгалитаризм — зло и великая опасность. Однако его наступление на эгалитаризм не было честным. Платон не посмел встретить врага в открытом бою.
Эгалитаризм был заклятым врагом Платона, с которым он намерен был расправиться. Нет сомнения в искренности его веры в то, что эгалитаризм — зло и великая опасность. Однако его наступление на эгалитаризм не было честным. Платон не посмел встретить врага в открытом бою. Существует только два способа объяснить это упущение: или он не заметил эгалитаристской теории 6.13, или намеренно её игнорировал. Первое маловероятно, если принять к сведению тщательность, с которой написано «Государство», и хорошо осознанную Платоном необходимость проанализировать теории оппонентов, чтобы убедительно представить собственную. Это объяснение оказывается ещё менее правдоподобным, если мы учтём широкую популярность эгалитаристской теории. Однако вовсе не обязательно прибегать к одним лишь правдоподобным доводам: ведь легко показать, что Платон, работая над «Государством», не только был знаком с эгалитаристской теорией, но и хорошо осознавал её важность. В настоящей главе уже упоминалось (раздел II), а впоследствии будет подробно рассказано (раздел VIII) о том, что эгалитаризм играл существенную роль в более раннем «Горгии» — там его даже защищают. Далее, несмотря на то, что в «Государстве» достоинства и недостатки эгалитаризма серьёзно не обсуждаются, Платон не перестал считать его менее влиятельным: ведь само «Государство» свидетельствует о его популярности.
Существует только два способа объяснить это упущение: или он не заметил эгалитаристской теории 6.13, или намеренно её игнорировал. Первое маловероятно, если принять к сведению тщательность, с которой написано «Государство», и хорошо осознанную Платоном необходимость проанализировать теории оппонентов, чтобы убедительно представить собственную. Это объяснение оказывается ещё менее правдоподобным, если мы учтём широкую популярность эгалитаристской теории. Однако вовсе не обязательно прибегать к одним лишь правдоподобным доводам: ведь легко показать, что Платон, работая над «Государством», не только был знаком с эгалитаристской теорией, но и хорошо осознавал её важность. В настоящей главе уже упоминалось (раздел II), а впоследствии будет подробно рассказано (раздел VIII) о том, что эгалитаризм играл существенную роль в более раннем «Горгии» — там его даже защищают. Далее, несмотря на то, что в «Государстве» достоинства и недостатки эгалитаризма серьёзно не обсуждаются, Платон не перестал считать его менее влиятельным: ведь само «Государство» свидетельствует о его популярности. В «Государстве» содержится намёк на широко известное демократическое представление о справедливости, однако о нём говорится только с презрением, и всё, что мы о нём слышим, — это несколько насмешек и колкостей 6.14, хорошо согласующихся с оскорбительными нападками на афинскую демократию, причём приведённых в тех местах диалога, где справедливость вовсе не обсуждается. Итак, не может быть, чтобы Платон не заметил эгалитаристскую теорию справедливости. Также невероятно, что он не счёл нужным обсудить влиятельную теорию, диаметрально противоположную его собственной. Тот факт, что в «Государстве» Платон ограничивается лишь несколькими шутливыми замечаниями на эту тему (очевидно, ему они очень нравились, поэтому он их не вычеркнул 6.15), можно объяснить лишь сознательным отказом от такого обсуждения. Поэтому мне непонятно, как попытка Платона убедить своих читателей в том, что он исследовал все важные теории, согласуется с требованиями интеллектуальной честности. Хотя следует добавить, что это его упущение, несомненно, является следствием глубокой преданности делу, которое он твёрдо считал благим.
В «Государстве» содержится намёк на широко известное демократическое представление о справедливости, однако о нём говорится только с презрением, и всё, что мы о нём слышим, — это несколько насмешек и колкостей 6.14, хорошо согласующихся с оскорбительными нападками на афинскую демократию, причём приведённых в тех местах диалога, где справедливость вовсе не обсуждается. Итак, не может быть, чтобы Платон не заметил эгалитаристскую теорию справедливости. Также невероятно, что он не счёл нужным обсудить влиятельную теорию, диаметрально противоположную его собственной. Тот факт, что в «Государстве» Платон ограничивается лишь несколькими шутливыми замечаниями на эту тему (очевидно, ему они очень нравились, поэтому он их не вычеркнул 6.15), можно объяснить лишь сознательным отказом от такого обсуждения. Поэтому мне непонятно, как попытка Платона убедить своих читателей в том, что он исследовал все важные теории, согласуется с требованиями интеллектуальной честности. Хотя следует добавить, что это его упущение, несомненно, является следствием глубокой преданности делу, которое он твёрдо считал благим.
 Я рассмотрю эти три требования и соответствующие им платоновские принципы по очереди, посвятив каждому из них по разделу (разделы IV, V и VI).
Я рассмотрю эти три требования и соответствующие им платоновские принципы по очереди, посвятив каждому из них по разделу (разделы IV, V и VI).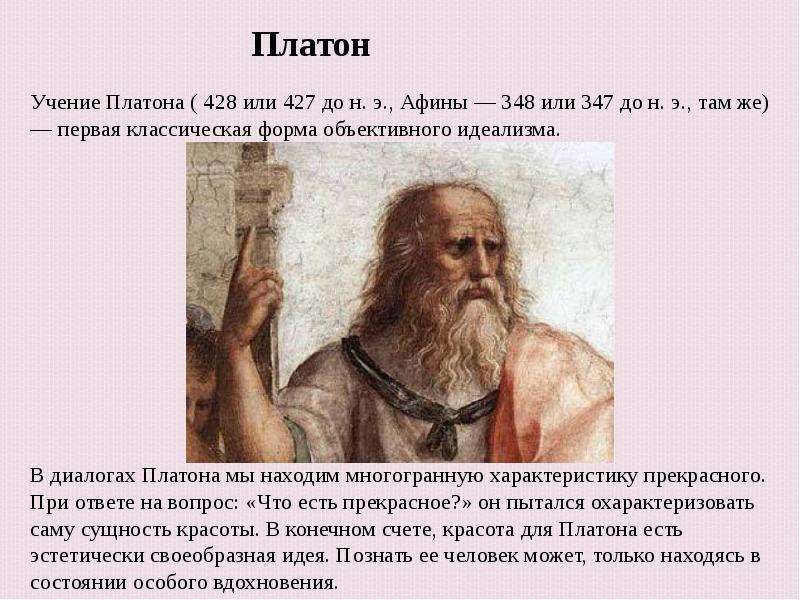 В век Перикла это движение было представлено Еврипидом, Антифонтом и Гиппием (их мы цитировали в предыдущей главе), а также Геродотом 6.17. Платоновское поколение представлено Алкидамом и Ликофроном, которых мы также цитировали ранее. Ещё одним сторонником эгалитаризма был Антисфен, один из ближайших друзей Сократа.
В век Перикла это движение было представлено Еврипидом, Антифонтом и Гиппием (их мы цитировали в предыдущей главе), а также Геродотом 6.17. Платоновское поколение представлено Алкидамом и Ликофроном, которых мы также цитировали ранее. Ещё одним сторонником эгалитаризма был Антисфен, один из ближайших друзей Сократа.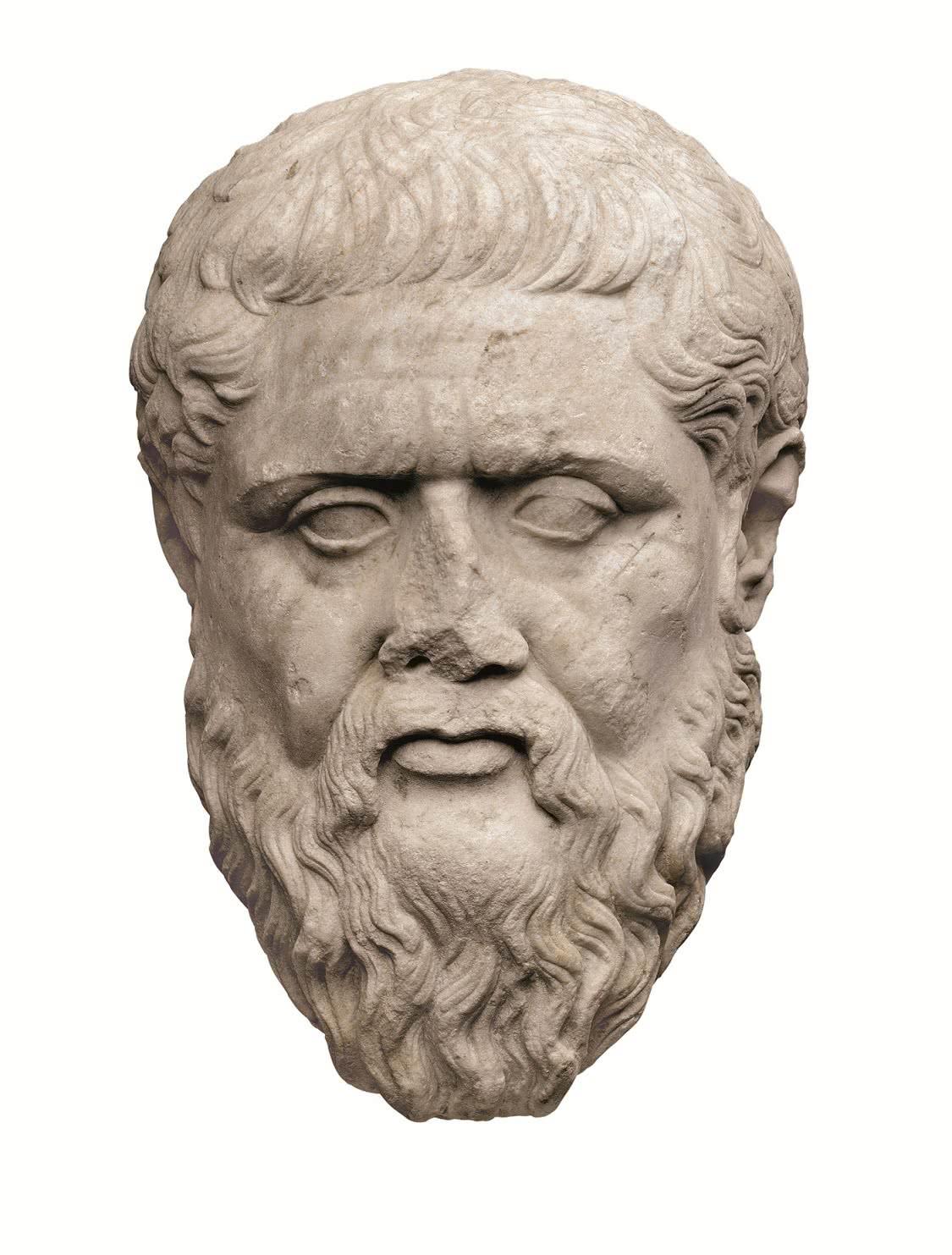 Следует также заметить, что не все эгалитаристы прибегали к этому натуралистическому доводу — так, Перикл, например, даже не намекнул на него 6.18.
Следует также заметить, что не все эгалитаристы прибегали к этому натуралистическому доводу — так, Перикл, например, даже не намекнул на него 6.18.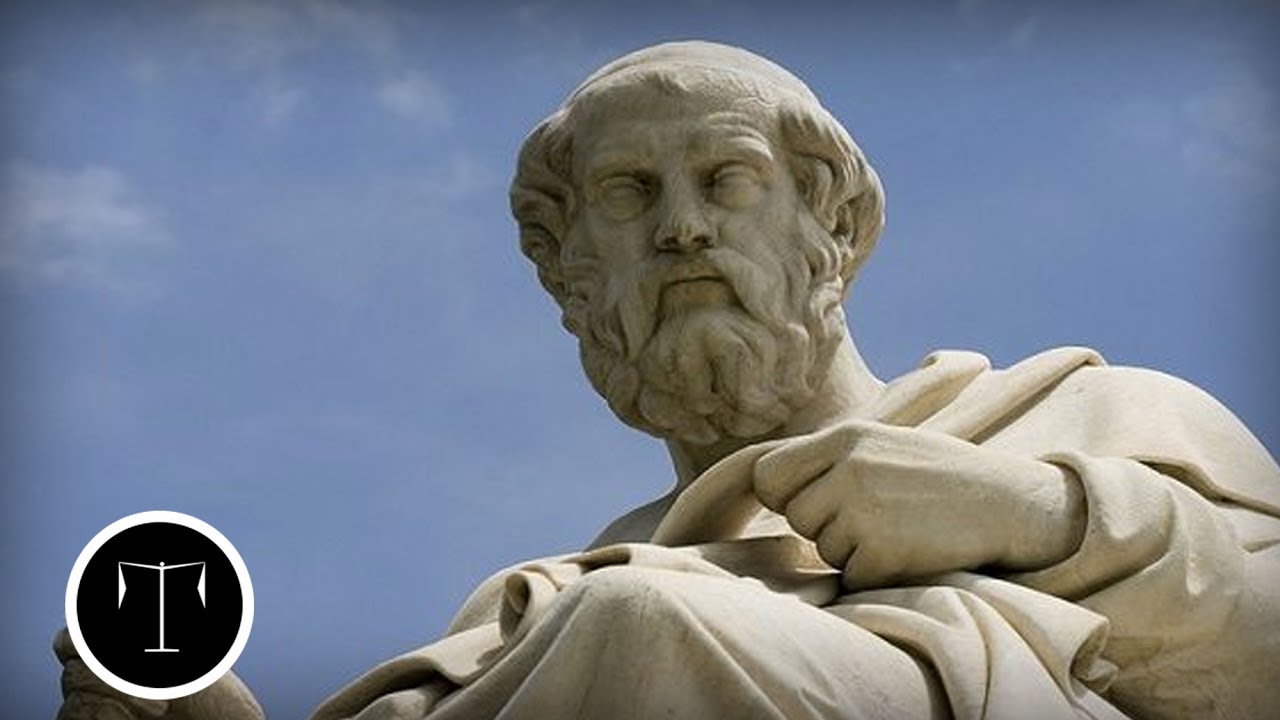 — Мы же и все наши люди, будучи братьями, детьми одной матери, не признаем отношений господства и рабства между собой; равенство происхождения заставляет нас стремиться к равным правам для всех, основанным на законе…» 6.19.
— Мы же и все наши люди, будучи братьями, детьми одной матери, не признаем отношений господства и рабства между собой; равенство происхождения заставляет нас стремиться к равным правам для всех, основанным на законе…» 6.19. Возможно, поэтому Платон не слишком верил в это возражение, работая над «Государством», так как использует его лишь однажды, когда, глумясь над демократией, он говорит, что она «уравнивает равных и неравных» 6.21. В остальных случаях он предпочитает не спорить с эгалитаризмом, а просто о нем забыть.
Возможно, поэтому Платон не слишком верил в это возражение, работая над «Государством», так как использует его лишь однажды, когда, глумясь над демократией, он говорит, что она «уравнивает равных и неравных» 6.21. В остальных случаях он предпочитает не спорить с эгалитаризмом, а просто о нем забыть.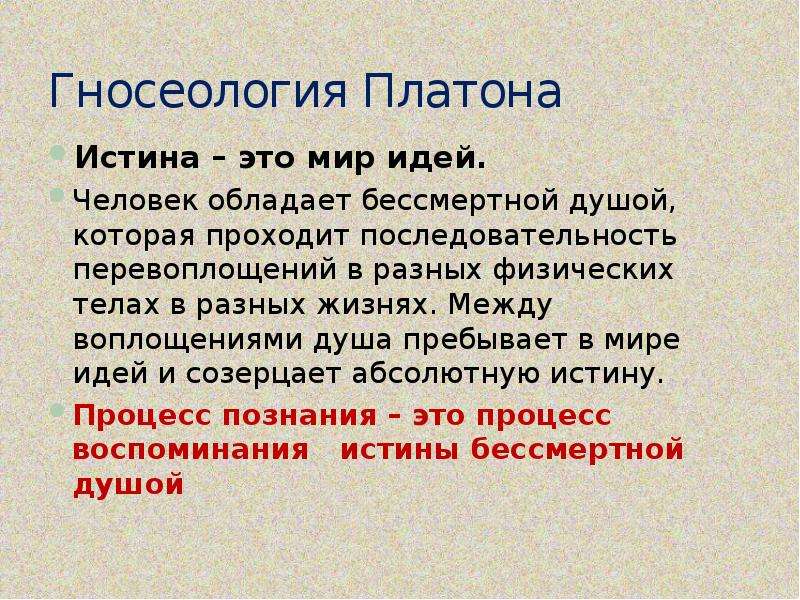 Я не хотел бы верить в то, что это рассуждение приведено как довод, однако, по-видимому, это так, ведь «Сократ», главный участник описываемой Платоном беседы, предпосылает ему вопрос: «Знаешь, почему я так заключаю?» Второй аргумент интереснее, так как с его помощью Платон пытается показать, что его антиэгалитаризм может быть выведен из обычного (то есть эгалитаристского) взгляда на справедливость как беспристрастность. Я процитирую этот фрагмент целиком. Замечая, что правители города будут одновременно его судьями, Сократ говорит 6.23: «А при судебном разбирательстве разве усилия их будут направлены больше на что-нибудь иное, а не на то, чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего?»
Я не хотел бы верить в то, что это рассуждение приведено как довод, однако, по-видимому, это так, ведь «Сократ», главный участник описываемой Платоном беседы, предпосылает ему вопрос: «Знаешь, почему я так заключаю?» Второй аргумент интереснее, так как с его помощью Платон пытается показать, что его антиэгалитаризм может быть выведен из обычного (то есть эгалитаристского) взгляда на справедливость как беспристрастность. Я процитирую этот фрагмент целиком. Замечая, что правители города будут одновременно его судьями, Сократ говорит 6.23: «А при судебном разбирательстве разве усилия их будут направлены больше на что-нибудь иное, а не на то, чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего?»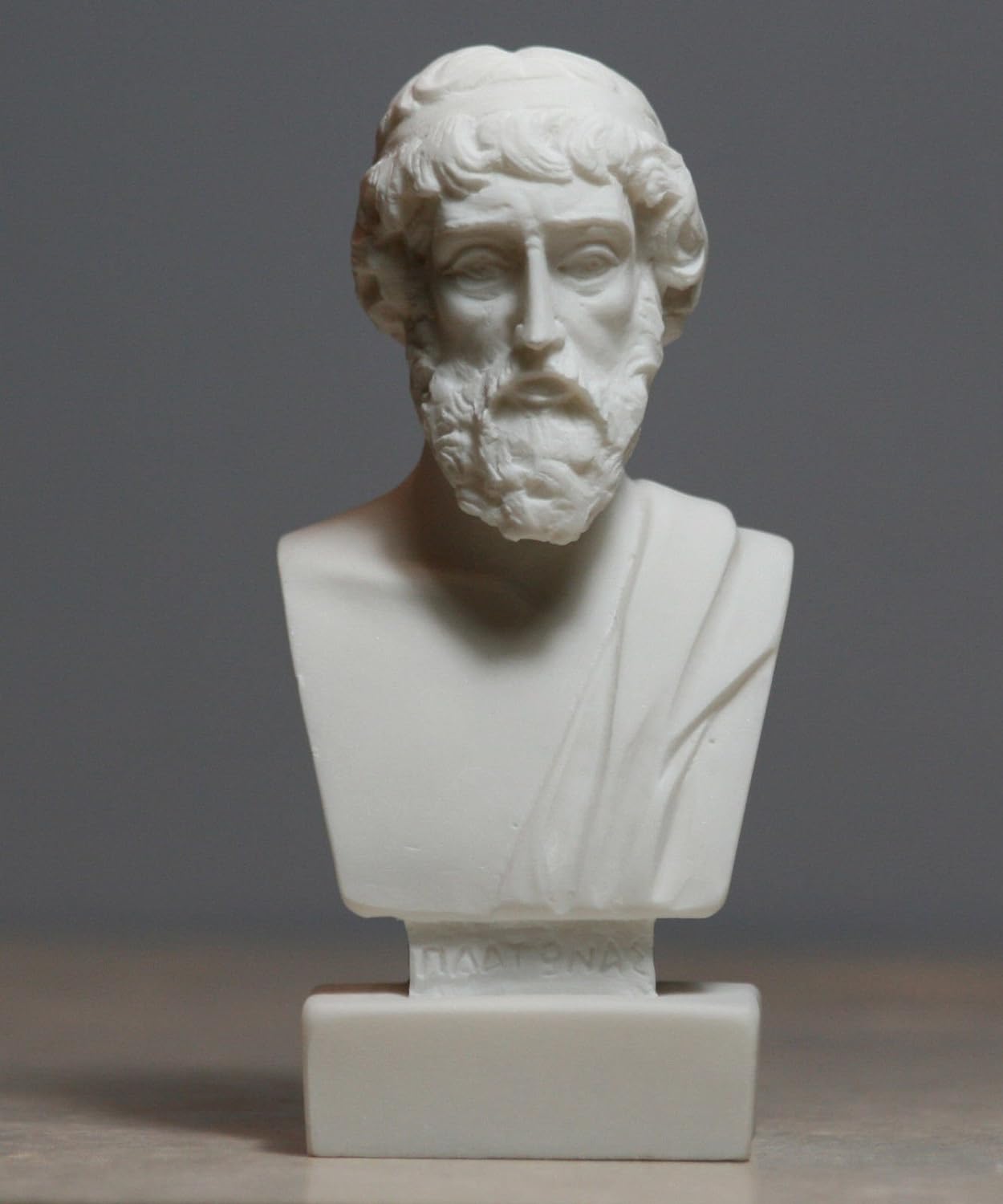 Здесь на смену второму аргументу приходит третий (который мы рассмотрим позже), приводящий к выводу, что справедливость состоит в сохранении своего собственного места (или своего собственного занятия), причём это место (или занятие) класса или касты данного человека.
Здесь на смену второму аргументу приходит третий (который мы рассмотрим позже), приводящий к выводу, что справедливость состоит в сохранении своего собственного места (или своего собственного занятия), причём это место (или занятие) класса или касты данного человека. Ясно, что вывод, которого ждёт от нас Платон, — это всего лишь грубое извращение значения слов «чей-то собственный». (Ведь реальная проблема в том и состоит, требует ли справедливость, чтобы всё, что в каком-то смысле «наше собственное», например, «наш собственный» класс, рассматривалось не просто как наше владение, а как наше неотчуждаемое владение. Однако и сам Платон не верит в этот принцип, поскольку в таком случае было бы невозможно перейти к коммунизму. Кстати, как насчёт удерживания при себе собственных детей?) Этим незатейливым фокусом Платон добивается того, что Дж. Адам называет «соединением собственного платоновского взгляда на справедливость с общепринятым… значением этого слова». Вот как великий философ всех времён пытается нас убедить, что он открыл истинную природу справедливости.
Ясно, что вывод, которого ждёт от нас Платон, — это всего лишь грубое извращение значения слов «чей-то собственный». (Ведь реальная проблема в том и состоит, требует ли справедливость, чтобы всё, что в каком-то смысле «наше собственное», например, «наш собственный» класс, рассматривалось не просто как наше владение, а как наше неотчуждаемое владение. Однако и сам Платон не верит в этот принцип, поскольку в таком случае было бы невозможно перейти к коммунизму. Кстати, как насчёт удерживания при себе собственных детей?) Этим незатейливым фокусом Платон добивается того, что Дж. Адам называет «соединением собственного платоновского взгляда на справедливость с общепринятым… значением этого слова». Вот как великий философ всех времён пытается нас убедить, что он открыл истинную природу справедливости.
 Сократ предлагает «больше не возиться с рассудительностью», однако Главкон возражает, и Сократ сдается, говоря, что отказываться от её обсуждения было бы ошибкой. Этот небольшой спор готовит читателя к новому определению справедливости, заставляет его предположить, что Сократ располагает средствами для этого «открытия», и убеждает его поверить в то, что Главкон внимательно следит за тем, чтобы платоновские рассуждения соответствовали интеллектуальной честности, и поэтому самому читателю нет нужды за этим следить 6.25.
Сократ предлагает «больше не возиться с рассудительностью», однако Главкон возражает, и Сократ сдается, говоря, что отказываться от её обсуждения было бы ошибкой. Этот небольшой спор готовит читателя к новому определению справедливости, заставляет его предположить, что Сократ располагает средствами для этого «открытия», и убеждает его поверить в то, что Главкон внимательно следит за тем, чтобы платоновские рассуждения соответствовали интеллектуальной честности, и поэтому самому читателю нет нужды за этим следить 6.25. — «Ясно», — отвечает Главкон.
— «Ясно», — отвечает Главкон. «Эй, Главкон, какая радость, — кричит он. — Пожалуй, мы напали на её след, мне кажется, она недалеко от нас убежала!» — «Благие вести!» — отвечает Главкон. — «Однако и ротозеи же мы!» — восклицает Сократ. — «Она чуть ли не с самого начала вертится у нас под ногами, а мы на неё и не смотрим!»
«Эй, Главкон, какая радость, — кричит он. — Пожалуй, мы напали на её след, мне кажется, она недалеко от нас убежала!» — «Благие вести!» — отвечает Главкон. — «Однако и ротозеи же мы!» — восклицает Сократ. — «Она чуть ли не с самого начала вертится у нас под ногами, а мы на неё и не смотрим!»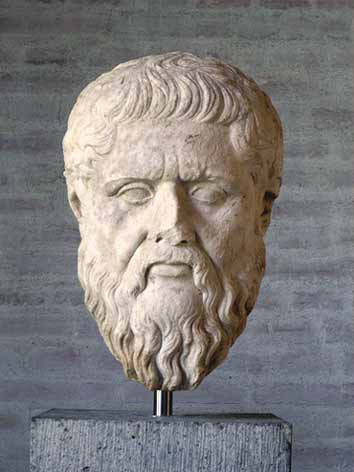 Создаётся впечатление, что Платон сознавал его слабость и понимал, как её скрыть.
Создаётся впечатление, что Платон сознавал его слабость и понимал, как её скрыть. Я полагаю, что несмотря на неизбежную нечёткость этих терминов, они могут быть проиллюстрированы на примерах и благодаря этому использованы настолько точно, насколько это необходимо для нашей цели. Начнём с коллективизма 6.26, поскольку с этой установкой мы уже познакомились, когда обсуждали платоновский холизм. В предыдущей главе мы привели несколько фрагментов, поясняющих платоновское требование того, чтобы индивид подчинялся интересам целого, будь то вселенная, город, род, раса или любой другой коллектив. Ещё раз процитируем один из них, но более полно 6.27: «Всё, что возникло, возникает ради всего в целом… бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты — ради него. Ведь любой… делает все ради целого, а не целое ради части…». Эта цитата не только иллюстрирует холизм и коллективизм, но также говорит о связываемой с ними огромной эмоциональной нагрузке, которую Платон хорошо осознавал (это видно из преамбулы к данному фрагменту). Коллективизм апеллирует к различным чувствам, например, к стремлению принадлежать группе или роду, а также выражает моральное требование альтруизма и отсутствия себялюбия или эгоизма.
Я полагаю, что несмотря на неизбежную нечёткость этих терминов, они могут быть проиллюстрированы на примерах и благодаря этому использованы настолько точно, насколько это необходимо для нашей цели. Начнём с коллективизма 6.26, поскольку с этой установкой мы уже познакомились, когда обсуждали платоновский холизм. В предыдущей главе мы привели несколько фрагментов, поясняющих платоновское требование того, чтобы индивид подчинялся интересам целого, будь то вселенная, город, род, раса или любой другой коллектив. Ещё раз процитируем один из них, но более полно 6.27: «Всё, что возникло, возникает ради всего в целом… бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты — ради него. Ведь любой… делает все ради целого, а не целое ради части…». Эта цитата не только иллюстрирует холизм и коллективизм, но также говорит о связываемой с ними огромной эмоциональной нагрузке, которую Платон хорошо осознавал (это видно из преамбулы к данному фрагменту). Коллективизм апеллирует к различным чувствам, например, к стремлению принадлежать группе или роду, а также выражает моральное требование альтруизма и отсутствия себялюбия или эгоизма.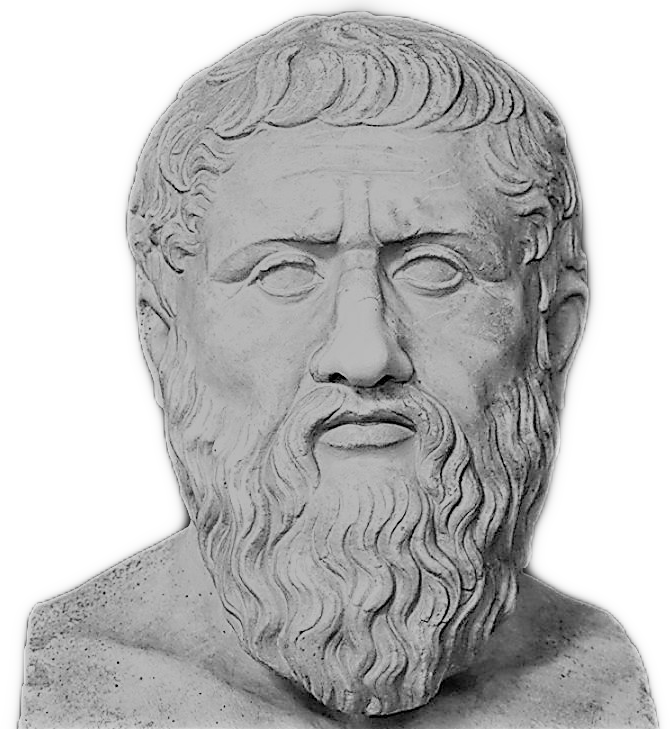 Платон полагает, что человек, который не может поступиться своими интересами ради целого, себялюбив.
Платон полагает, что человек, который не может поступиться своими интересами ради целого, себялюбив. (Напомню читателю о миссис Джеллиби из «Холодного дома» — «леди, преданной общественным обязанностям».) Я думаю, эти примеры хорошо поясняют значение интересующих нас четырёх терминов. Кроме того, они показывают, что каждый из терминов нашей таблицы согласуется с любым из двух терминов противоположного столбца (то есть всего возможны четыре комбинации).
(Напомню читателю о миссис Джеллиби из «Холодного дома» — «леди, преданной общественным обязанностям».) Я думаю, эти примеры хорошо поясняют значение интересующих нас четырёх терминов. Кроме того, они показывают, что каждый из терминов нашей таблицы согласуется с любым из двух терминов противоположного столбца (то есть всего возможны четыре комбинации). Защищая коллективизм, он может воззвать к нашему гуманистическому чувству отказа от себялюбия. Нападая, он может заклеймить всех индивидуалистов себялюбцами, которые способны быть преданными только самим себе. Хотя эти платоновские нападки направлены против индивидуализма в нашем смысле, то есть против прав человека, они поражают совсем иную цель, а именно — эгоизм. Однако и Платон, и большинство его последователей постоянно пренебрегают этим различием.
Защищая коллективизм, он может воззвать к нашему гуманистическому чувству отказа от себялюбия. Нападая, он может заклеймить всех индивидуалистов себялюбцами, которые способны быть преданными только самим себе. Хотя эти платоновские нападки направлены против индивидуализма в нашем смысле, то есть против прав человека, они поражают совсем иную цель, а именно — эгоизм. Однако и Платон, и большинство его последователей постоянно пренебрегают этим различием.
 Платон называет здесь такое государственное устройство «наилучшим». В наилучшем государстве, говорит он, «все общее. Существует ли в наше время где-либо и будет ли когда, чтобы общими были жены, дети, все имущество и чтобы вся собственность, именуемая частной, всеми средствами была повсюду устранена из жизни?
Платон называет здесь такое государственное устройство «наилучшим». В наилучшем государстве, говорит он, «все общее. Существует ли в наше время где-либо и будет ли когда, чтобы общими были жены, дети, все имущество и чтобы вся собственность, именуемая частной, всеми средствами была повсюду устранена из жизни?
 Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперёд, приступать к упражнениям, умываться, питаться 6.34… Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно. Пусть жизнь всех людей всегда будет возможно более сплочённой и общей. Ибо нет и никогда не будет ничего лучшего, более полезного и искусного в деле достижения удачи и победы на войне. Упражняться в этом надо с самых ранних лет, и не только в военное, но и в мирное время. Надо руководствовать над другими и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из жизни всех людей и даже животных, подвластных людям».
Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперёд, приступать к упражнениям, умываться, питаться 6.34… Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно. Пусть жизнь всех людей всегда будет возможно более сплочённой и общей. Ибо нет и никогда не будет ничего лучшего, более полезного и искусного в деле достижения удачи и победы на войне. Упражняться в этом надо с самых ранних лет, и не только в военное, но и в мирное время. Надо руководствовать над другими и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из жизни всех людей и даже животных, подвластных людям».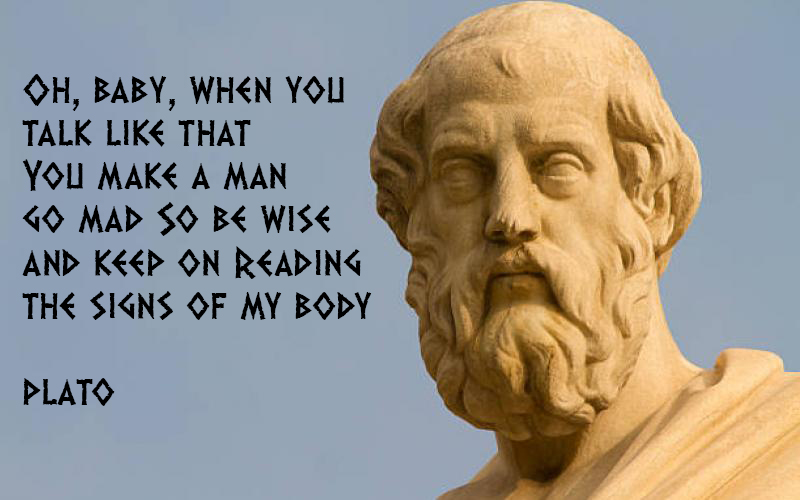 В сфере политики личность для Платона — сам сатана.
В сфере политики личность для Платона — сам сатана. Мы должны понять, что те, кого обманывает это отождествление и соответствующие громкие слова, кто превозносит Платона как учителя нравственности и заявляет, что его этика ближе всех к христианству в дохристианском мире, — все они открывают дорогу тоталитаризму и глубоко нехристианскому, тоталитарному истолкованию христианства. А это очень опасно: ведь уже случалось, что в христианстве господствовали тоталитаристские идеи, существовала инквизиция, и она может вернуться, сменив обличье.
Мы должны понять, что те, кого обманывает это отождествление и соответствующие громкие слова, кто превозносит Платона как учителя нравственности и заявляет, что его этика ближе всех к христианству в дохристианском мире, — все они открывают дорогу тоталитаризму и глубоко нехристианскому, тоталитарному истолкованию христианства. А это очень опасно: ведь уже случалось, что в христианстве господствовали тоталитаристские идеи, существовала инквизиция, и она может вернуться, сменив обличье. Напомню учение Сократа, изложенное в «Горгии», где утверждается, что лучше страдать от несправедливости, чем причинять её. Очевидно, что это учение отмечено не только альтруизмом, но и индивидуализмом: ведь в коллективистской теории справедливости, например, той, что изложена в «Государстве», несправедливость — это действие, направленное против государства, а не против отдельного человека, и хотя человек может совершить несправедливость, от неё пострадает только коллектив. Однако в «Горгии» нет ничего подобного. Здесь предлагается совершенно обычная теория справедливости, причём «Сократ» (вероятно, наделённый многими чертами настоящего Сократа) приводит такие примеры несправедливости, как пощечина, нанесение ран или убийство. Слова Сократа о том, что лучше страдать от таких действий, чем их совершать, действительно очень близки христианскому учению, а его теория справедливости соответствует духу Перикла. (В главе 10 мы попытаемся это объяснить.)
Напомню учение Сократа, изложенное в «Горгии», где утверждается, что лучше страдать от несправедливости, чем причинять её. Очевидно, что это учение отмечено не только альтруизмом, но и индивидуализмом: ведь в коллективистской теории справедливости, например, той, что изложена в «Государстве», несправедливость — это действие, направленное против государства, а не против отдельного человека, и хотя человек может совершить несправедливость, от неё пострадает только коллектив. Однако в «Горгии» нет ничего подобного. Здесь предлагается совершенно обычная теория справедливости, причём «Сократ» (вероятно, наделённый многими чертами настоящего Сократа) приводит такие примеры несправедливости, как пощечина, нанесение ран или убийство. Слова Сократа о том, что лучше страдать от таких действий, чем их совершать, действительно очень близки христианскому учению, а его теория справедливости соответствует духу Перикла. (В главе 10 мы попытаемся это объяснить.)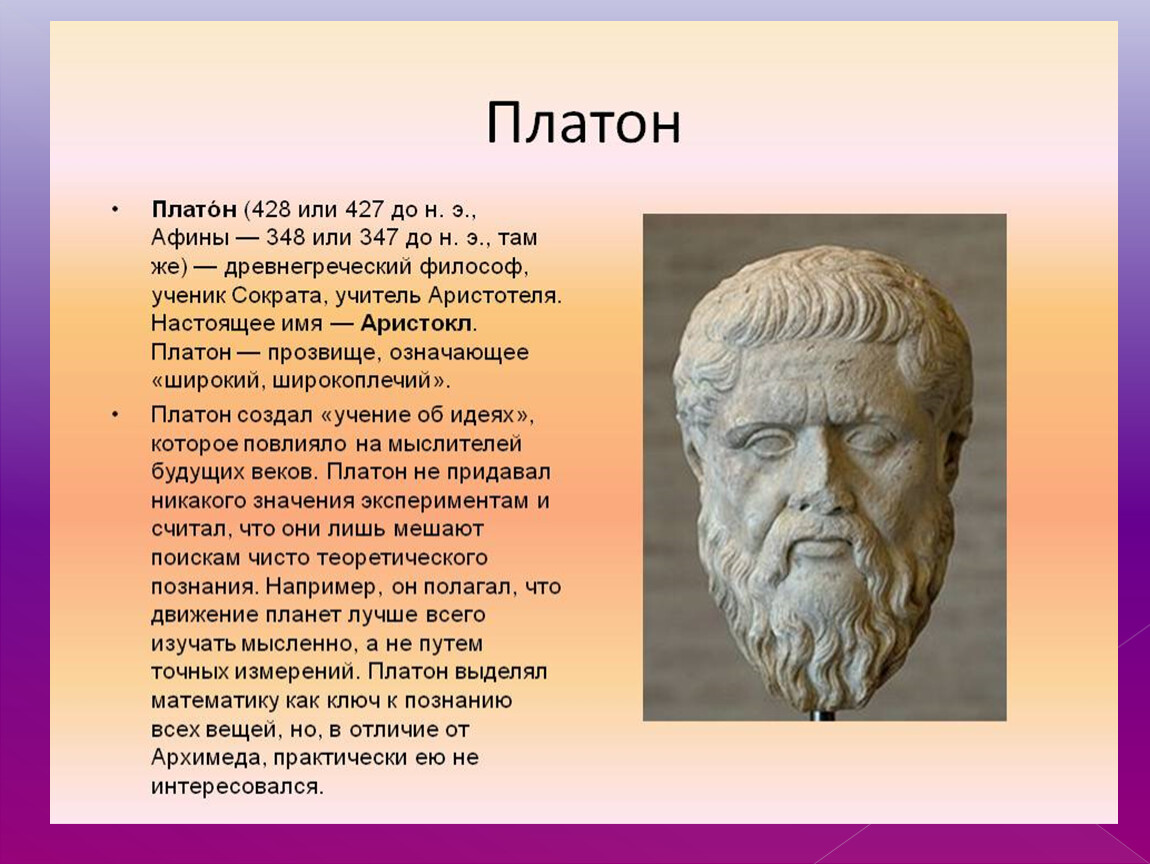 Однако читатель может легко поверить, что Платон все ещё привержен учению, предложенному в «Горгии», так как в «Государстве»
Однако читатель может легко поверить, что Платон все ещё привержен учению, предложенному в «Горгии», так как в «Государстве» 38. При этом читателя вынуждают отождествить индивидуализм и подход Фрасимаха и придти к выводу о том, что борющийся с этой позицией Платон выступает против всех бытовавших в то время подрывных и нигилистических взглядов.
38. При этом читателя вынуждают отождествить индивидуализм и подход Фрасимаха и придти к выводу о том, что борющийся с этой позицией Платон выступает против всех бытовавших в то время подрывных и нигилистических взглядов. Действительно, все индивидуальное у него занимает подчинённое положение: «Я установлю законы, приняв в расчёт всё то, что наиболее полезно всему государству и всему роду в целом, — говорит Платон. — Этой цели я справедливо подчиню интересы каждого отдельного гражданина» 6.39. Платона заботит только коллективное целое как таковое, для которого справедливость есть не что иное, как здоровье, единство и стабильность коллектива.
Действительно, все индивидуальное у него занимает подчинённое положение: «Я установлю законы, приняв в расчёт всё то, что наиболее полезно всему государству и всему роду в целом, — говорит Платон. — Этой цели я справедливо подчиню интересы каждого отдельного гражданина» 6.39. Платона заботит только коллективное целое как таковое, для которого справедливость есть не что иное, как здоровье, единство и стабильность коллектива.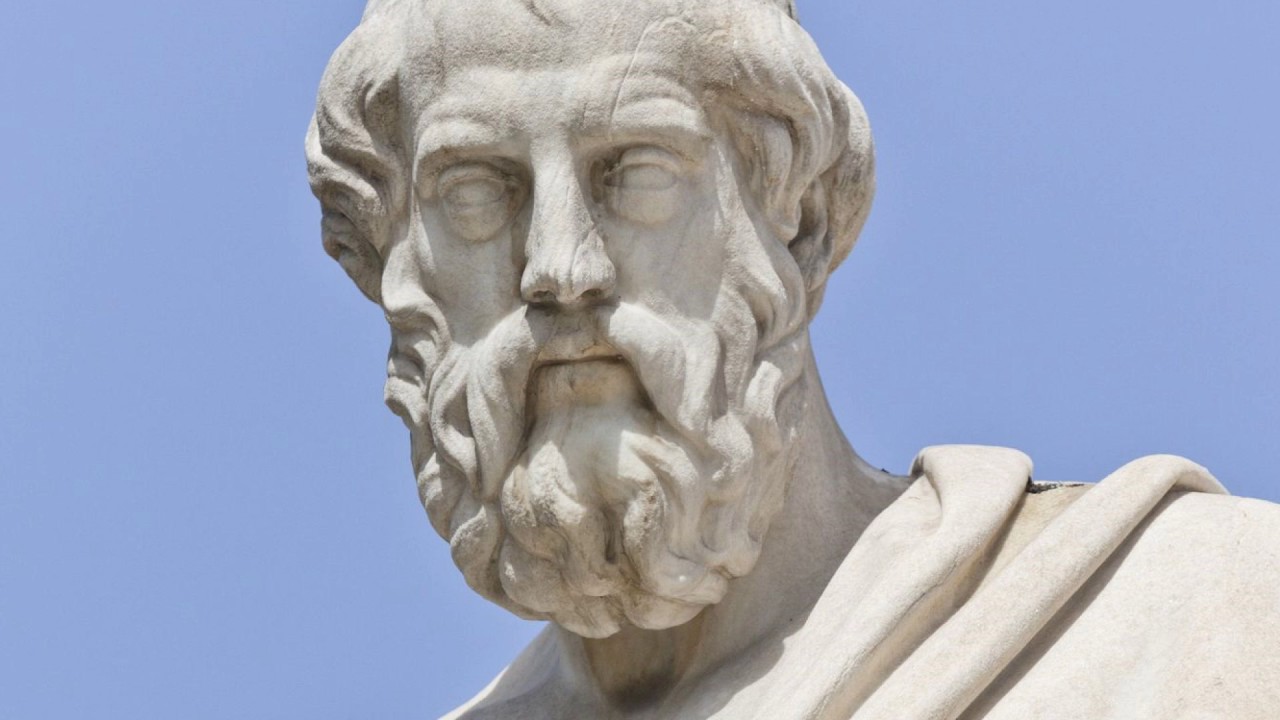 Вот этот довод 6.40: «Ну, а согласишься ли ты со мной вот в чём, — говорит Сократ, — если плотник попробует выполнять работу сапожника, а сапожник — плотника, … считаешь ли ты, что государство потерпит большой ущерб?» — «Не очень большой». — «Но право, когда ремесленник или кто-либо другой, делец по своим природным задаткам… попытается перейти в сословие воинов, или когда кто-нибудь из воинов постарается проникнуть в число членов совета или в стражи, будучи этого недостоин, … тогда… такая замена и вмешательство не в своё дело — гибель для государства». — «Полнейшая гибель». — «Значит, вмешательство этих трёх сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое — великий вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением». — «Совершенно верно». — «А высшее преступление против своего же государства не назовёшь ли ты несправедливостью?» — «Конечно». — «Значит, вот это и есть несправедливость. И давай скажем ещё раз: в противоположность ей справедливостью будет — и сделает справедливым государство — преданность своему делу у всех сословий — дельцов, помощников и стражей, причём каждое из них будет выполнять то, что ему свойственно».
Вот этот довод 6.40: «Ну, а согласишься ли ты со мной вот в чём, — говорит Сократ, — если плотник попробует выполнять работу сапожника, а сапожник — плотника, … считаешь ли ты, что государство потерпит большой ущерб?» — «Не очень большой». — «Но право, когда ремесленник или кто-либо другой, делец по своим природным задаткам… попытается перейти в сословие воинов, или когда кто-нибудь из воинов постарается проникнуть в число членов совета или в стражи, будучи этого недостоин, … тогда… такая замена и вмешательство не в своё дело — гибель для государства». — «Полнейшая гибель». — «Значит, вмешательство этих трёх сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое — великий вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением». — «Совершенно верно». — «А высшее преступление против своего же государства не назовёшь ли ты несправедливостью?» — «Конечно». — «Значит, вот это и есть несправедливость. И давай скажем ещё раз: в противоположность ей справедливостью будет — и сделает справедливым государство — преданность своему делу у всех сословий — дельцов, помощников и стражей, причём каждое из них будет выполнять то, что ему свойственно».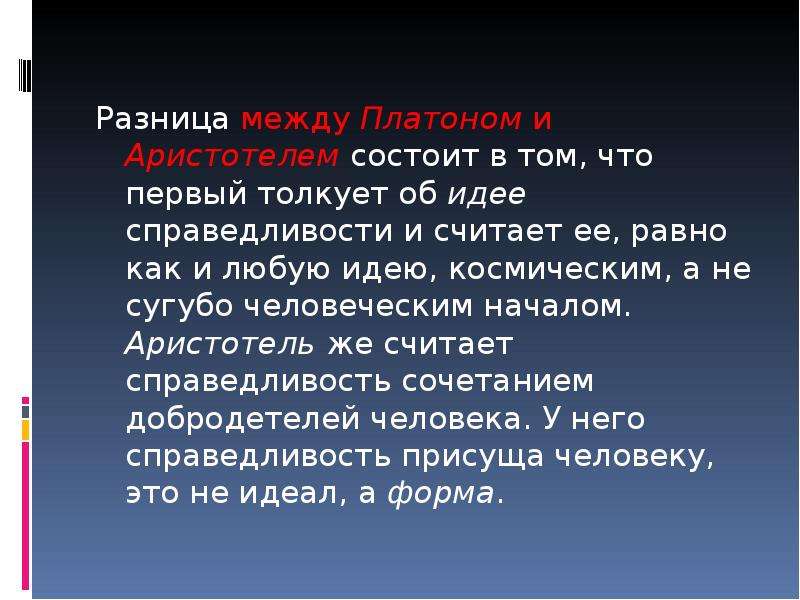

 (Гегель сделал этот вывод, ясно увидев аморальность государства, приводящую к защите морального нигилизма в международных отношениях.)
(Гегель сделал этот вывод, ясно увидев аморальность государства, приводящую к защите морального нигилизма в международных отношениях.)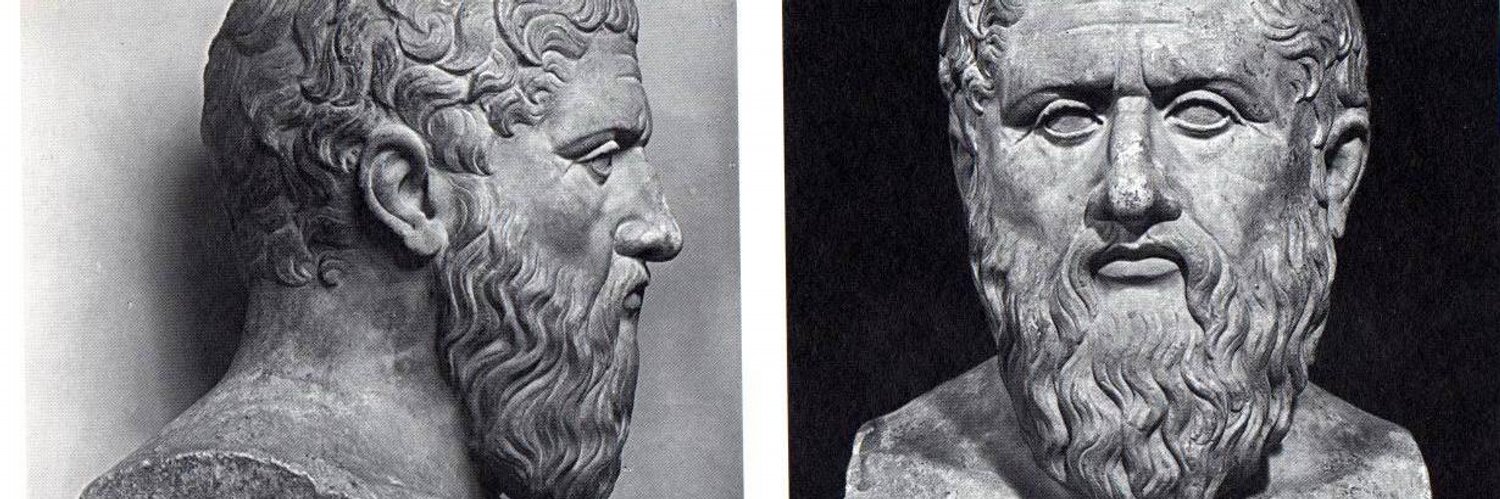 При этом все они должны быть на своём месте. Эта общая всем добродетель одновременно является добродетелью целого — согласованностью, гармонией. Такую всеобщую добродетель Платон называет «справедливостью». С точки зрения тоталитаристской морали всеобщая добродетель Платона непротиворечива и хорошо обоснована. Если личность — не что иное, как винтик, то этика — не что иное, как исследование того, как из винтиков составить целое.
При этом все они должны быть на своём месте. Эта общая всем добродетель одновременно является добродетелью целого — согласованностью, гармонией. Такую всеобщую добродетель Платон называет «справедливостью». С точки зрения тоталитаристской морали всеобщая добродетель Платона непротиворечива и хорошо обоснована. Если личность — не что иное, как винтик, то этика — не что иное, как исследование того, как из винтиков составить целое. 41. Следует, однако, осознать, что даже эта тенденция ограничить эксплуатацию классовых привилегий — весьма распространённый элемент тоталитаризма, который не просто аморален, а является моралью закрытого общества — группы или рода. Это не индивидуальное, а коллективное себялюбие.
41. Следует, однако, осознать, что даже эта тенденция ограничить эксплуатацию классовых привилегий — весьма распространённый элемент тоталитаризма, который не просто аморален, а является моралью закрытого общества — группы или рода. Это не индивидуальное, а коллективное себялюбие. Мы никогда не узнаем, о чём свидетельствуют сочинения Платона — о его циничной и осознанной попытке использовать в своих целях моральные чувства нового гуманизма или о трагической попытке навязать своё видение пороков индивидуализма. Мне лично представляется, что верно последнее и что тайна платоновских чар скрыта в его внутреннем конфликте. Я думаю, что Платон достиг глубин своей души с помощью новых идей, особенно с помощью идей великого индивидуалиста Сократа и его мученичества. Я также думаю, что он боролся против воздействия всего этого на себя и на других, используя, хотя и не всегда в открытую, всю мощь своего непревзойдённого ума. Этим также объясняется то, что Платон, несмотря на всю свою приверженность тоталитаризму, временами высказывал гуманистические идеи. А это объясняет, почему некоторым философам удалось представить Платона гуманистом.
Мы никогда не узнаем, о чём свидетельствуют сочинения Платона — о его циничной и осознанной попытке использовать в своих целях моральные чувства нового гуманизма или о трагической попытке навязать своё видение пороков индивидуализма. Мне лично представляется, что верно последнее и что тайна платоновских чар скрыта в его внутреннем конфликте. Я думаю, что Платон достиг глубин своей души с помощью новых идей, особенно с помощью идей великого индивидуалиста Сократа и его мученичества. Я также думаю, что он боролся против воздействия всего этого на себя и на других, используя, хотя и не всегда в открытую, всю мощь своего непревзойдённого ума. Этим также объясняется то, что Платон, несмотря на всю свою приверженность тоталитаризму, временами высказывал гуманистические идеи. А это объясняет, почему некоторым философам удалось представить Платона гуманистом.

 Например, я должен отказаться от «свободы» нападать, если я хочу, чтобы государство обеспечивало оборону от любых нападений. Однако я требую, чтобы не забывали об основной цели государства, а именно о том, что следует защищать свободу только тех граждан, которые не причиняют вреда другим. Таким образом, я требую, чтобы государство ограничивало свободу граждан, по возможности одинаково, причём эти ограничения не должны превышать того, что необходимо для достижения такого равенства.
Например, я должен отказаться от «свободы» нападать, если я хочу, чтобы государство обеспечивало оборону от любых нападений. Однако я требую, чтобы не забывали об основной цели государства, а именно о том, что следует защищать свободу только тех граждан, которые не причиняют вреда другим. Таким образом, я требую, чтобы государство ограничивало свободу граждан, по возможности одинаково, причём эти ограничения не должны превышать того, что необходимо для достижения такого равенства. Однако это возражение возникает благодаря путанице: смешивают основной вопрос о том, что мы хотим от государства, и некоторые существенные технологические трудности, препятствующие достижению нашей цели. Конечно, нелегко строго определить степень свободы, которую можно оставить гражданам, не подвергая опасности ту свободу, которую призвано защитить государство. Вместе с тем наш опыт (то есть существование демократических государств) показывает, что эту степень можно приблизительно определить. В действительности, главная задача демократического законодательства и состоит в том, чтобы это сделать. Это трудно, но не настолько, чтобы нам пришлось из-за этого менять свои основные требования, в частности отказаться от рассмотрения государства как инструмента защиты от преступлений, то есть от агрессии. Кроме того, на возражение о том, что трудно сказать, где кончается свобода и начинается преступление, в принципе отвечает известная история о хулигане, утверждавшем, что, будучи свободным гражданином, он может двигать своим кулаком в любом направлении, на что судья мудро ответил: «Свобода движений вашего кулака ограничена положением носа вашего соседа».
Однако это возражение возникает благодаря путанице: смешивают основной вопрос о том, что мы хотим от государства, и некоторые существенные технологические трудности, препятствующие достижению нашей цели. Конечно, нелегко строго определить степень свободы, которую можно оставить гражданам, не подвергая опасности ту свободу, которую призвано защитить государство. Вместе с тем наш опыт (то есть существование демократических государств) показывает, что эту степень можно приблизительно определить. В действительности, главная задача демократического законодательства и состоит в том, чтобы это сделать. Это трудно, но не настолько, чтобы нам пришлось из-за этого менять свои основные требования, в частности отказаться от рассмотрения государства как инструмента защиты от преступлений, то есть от агрессии. Кроме того, на возражение о том, что трудно сказать, где кончается свобода и начинается преступление, в принципе отвечает известная история о хулигане, утверждавшем, что, будучи свободным гражданином, он может двигать своим кулаком в любом направлении, на что судья мудро ответил: «Свобода движений вашего кулака ограничена положением носа вашего соседа».
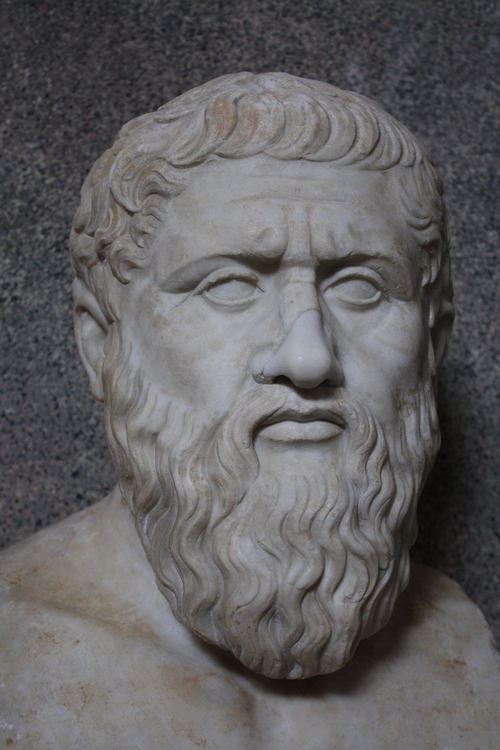 Государство должно следить, чтобы образование было доступно всем. Однако этот контроль не должен быть чрезмерным, так как он может вылиться в идеологическую обработку. Я уже отмечал, что важный и сложный вопрос об ограничениях свободы нельзя решить, опираясь на отшлифованную, сухую формулу. И следует приветствовать тот факт, что существуют спорные ситуации: ведь если исчезнут такого рода политические проблемы и политические споры, то граждане лишатся стимула бороться за свою свободу, а вместе с тем и самой свободы. (При таком понимании оказывается, что существующее противоречие между свободой и безопасностью, то есть безопасностью, гарантированной государством, — это химера. Ведь свободы просто нет, если её не обеспечивает государство, и наоборот, только государство, управляемое свободными гражданами, может предложить им более или менее приемлемую безопасность.)
Государство должно следить, чтобы образование было доступно всем. Однако этот контроль не должен быть чрезмерным, так как он может вылиться в идеологическую обработку. Я уже отмечал, что важный и сложный вопрос об ограничениях свободы нельзя решить, опираясь на отшлифованную, сухую формулу. И следует приветствовать тот факт, что существуют спорные ситуации: ведь если исчезнут такого рода политические проблемы и политические споры, то граждане лишатся стимула бороться за свою свободу, а вместе с тем и самой свободы. (При таком понимании оказывается, что существующее противоречие между свободой и безопасностью, то есть безопасностью, гарантированной государством, — это химера. Ведь свободы просто нет, если её не обеспечивает государство, и наоборот, только государство, управляемое свободными гражданами, может предложить им более или менее приемлемую безопасность.) В ней ничего не сказано о сущности государства или о естественном праве на свободу. В ней не говорится о том, как в действительности функционирует государство. Моя теория выражает политическое требование или, точнее, предложение-проект, рекомендацию следовать определённой политике. Я подозреваю, что многие конвенционалисты, утверждавшие, что государство произошло из договора граждан защищать друг друга, стремились выразить именно это требование, но на неуклюжем и вводящем в заблуждение языке историцизма. То же требование — и столь же неудачно — выражено в утверждениях о том, что существенная функция государства — защита его членов, что государство, по определению, есть сообщество для защиты друг друга. Прежде чем всерьёз обсуждать все эти теории, их следует перевести на язык требований или рекомендаций политических действий; в противном случае неизбежны бесконечные споры о словах.
В ней ничего не сказано о сущности государства или о естественном праве на свободу. В ней не говорится о том, как в действительности функционирует государство. Моя теория выражает политическое требование или, точнее, предложение-проект, рекомендацию следовать определённой политике. Я подозреваю, что многие конвенционалисты, утверждавшие, что государство произошло из договора граждан защищать друг друга, стремились выразить именно это требование, но на неуклюжем и вводящем в заблуждение языке историцизма. То же требование — и столь же неудачно — выражено в утверждениях о том, что существенная функция государства — защита его членов, что государство, по определению, есть сообщество для защиты друг друга. Прежде чем всерьёз обсуждать все эти теории, их следует перевести на язык требований или рекомендаций политических действий; в противном случае неизбежны бесконечные споры о словах. Берк и многие современные платоники. Все эти критики утверждают, что протекционизм слишком принижает задачи государства, которое (пользуясь словами Берка) «следует почитать надлежащим образом, ведь оно есть содружество людей во имя не одного лишь удовлетворения грубых животных интересов недолговечной и тленной природы». Другими словами, эти критики утверждают, что государство — это нечто более высокое и благородное, чем объединение во имя рациональных целей, — это предмет почитания. Его задачи выше, чем защита людей и их прав. У него моральные задачи. «За добродетелью же и пороком в государствах, — пишет Аристотель, — заботливо наблюдают те, кто печется о соблюдении благозакония; в этом и сказывается необходимость заботиться о добродетели граждан тому государству, которое называется государством по истине, а не только на словах». Если попытаться перевести эту критику на язык политических требований, то окажется, что критики протекционизма хотят двух вещей. Во-первых, они хотят превратить государство в предмет почитания.
Берк и многие современные платоники. Все эти критики утверждают, что протекционизм слишком принижает задачи государства, которое (пользуясь словами Берка) «следует почитать надлежащим образом, ведь оно есть содружество людей во имя не одного лишь удовлетворения грубых животных интересов недолговечной и тленной природы». Другими словами, эти критики утверждают, что государство — это нечто более высокое и благородное, чем объединение во имя рациональных целей, — это предмет почитания. Его задачи выше, чем защита людей и их прав. У него моральные задачи. «За добродетелью же и пороком в государствах, — пишет Аристотель, — заботливо наблюдают те, кто печется о соблюдении благозакония; в этом и сказывается необходимость заботиться о добродетели граждан тому государству, которое называется государством по истине, а не только на словах». Если попытаться перевести эту критику на язык политических требований, то окажется, что критики протекционизма хотят двух вещей. Во-первых, они хотят превратить государство в предмет почитания.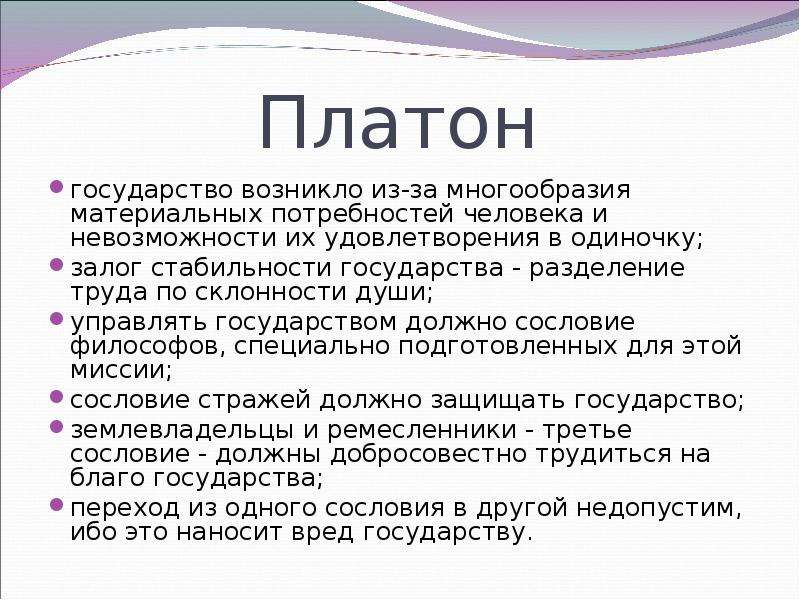 С нашей точки зрения, возразить против этого желания нечего. Это — религиозная проблема, и почитатели государства должны сами решить для себя вопрос о том, как примирить свой символ веры с другими религиозными верованиями, например с Первой заповедью. Во-вторых, критики протекционизма выдвигают политическое требование, которое означает следующее: государственные чиновники должны заботиться о нравственности граждан и использовать свою власть не столько для защиты свободы граждан, сколько для контроля над их моралью. Другими словами, это требование расширить правовую сферу (то есть сферу норм, навязываемых государством) за счёт сферы собственно морали (то есть норм, устанавливаемых не государством, а нашими собственными моральными решениями, нашей совестью). Это требование или рекомендация может подлежать рациональному обсуждению, и на него можно возразить таким образом: защитники требований такого рода, очевидно, не понимают, что принятие такого требования означало бы конец моральной ответственности личности и послужило бы разрушению, а не совершенствованию морали.
С нашей точки зрения, возразить против этого желания нечего. Это — религиозная проблема, и почитатели государства должны сами решить для себя вопрос о том, как примирить свой символ веры с другими религиозными верованиями, например с Первой заповедью. Во-вторых, критики протекционизма выдвигают политическое требование, которое означает следующее: государственные чиновники должны заботиться о нравственности граждан и использовать свою власть не столько для защиты свободы граждан, сколько для контроля над их моралью. Другими словами, это требование расширить правовую сферу (то есть сферу норм, навязываемых государством) за счёт сферы собственно морали (то есть норм, устанавливаемых не государством, а нашими собственными моральными решениями, нашей совестью). Это требование или рекомендация может подлежать рациональному обсуждению, и на него можно возразить таким образом: защитники требований такого рода, очевидно, не понимают, что принятие такого требования означало бы конец моральной ответственности личности и послужило бы разрушению, а не совершенствованию морали. Такое требование заменило бы личную ответственность родовыми табу и тоталитаристской безответственностью личности. Возражая против этой установки в целом, индивидуалист должен заявить, что мораль государства (если таковая вообще существует), как правило, значительно ниже морали среднего гражданина, так что гораздо желательнее, чтобы граждане контролировали государство, а не наоборот. Нам необходимо и мы хотим сделать моральной политику, а не политизировать мораль.
Такое требование заменило бы личную ответственность родовыми табу и тоталитаристской безответственностью личности. Возражая против этой установки в целом, индивидуалист должен заявить, что мораль государства (если таковая вообще существует), как правило, значительно ниже морали среднего гражданина, так что гораздо желательнее, чтобы граждане контролировали государство, а не наоборот. Нам необходимо и мы хотим сделать моральной политику, а не политизировать мораль. Я думаю, что как только воцарится твёрдый и рациональный подход к контролю над международными преступлениями, связанные с этим инженерные, технологические проблемы окажутся совсем не такими уж сложными. Как только вопрос будет прояснён, люди легко согласятся с тем, что необходимы защитные институты — как в местном, так и в мировом масштабе. Пусть почитатели государства продолжают поклоняться государству, однако следует потребовать, чтобы специалистам по технологии учреждений было разрешено не только совершенствовать внутренний механизм социальных институтов, но и создавать организации для предотвращения международных преступлений.
Я думаю, что как только воцарится твёрдый и рациональный подход к контролю над международными преступлениями, связанные с этим инженерные, технологические проблемы окажутся совсем не такими уж сложными. Как только вопрос будет прояснён, люди легко согласятся с тем, что необходимы защитные институты — как в местном, так и в мировом масштабе. Пусть почитатели государства продолжают поклоняться государству, однако следует потребовать, чтобы специалистам по технологии учреждений было разрешено не только совершенствовать внутренний механизм социальных институтов, но и создавать организации для предотвращения международных преступлений.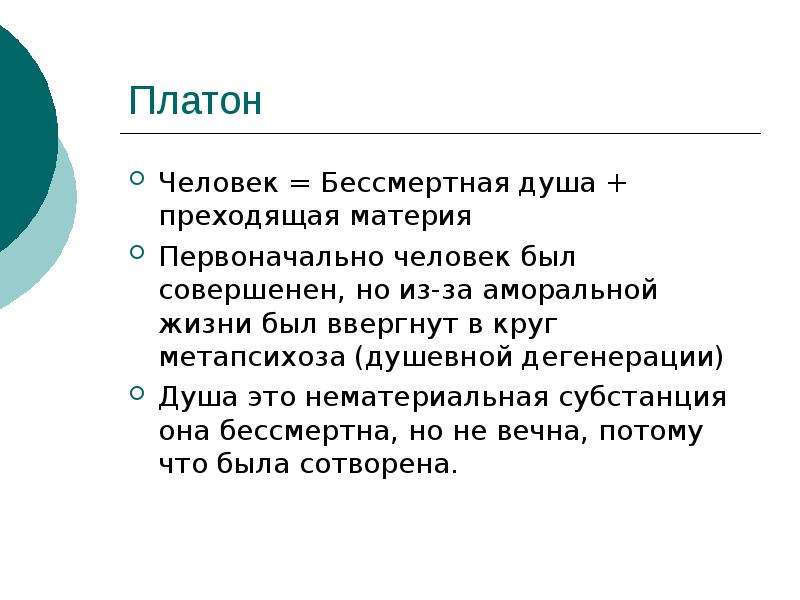 Здесь же мы узнаем, что Ликофрон сумел выразить её яснее, чем любой из его последователей.
Здесь же мы узнаем, что Ликофрон сумел выразить её яснее, чем любой из его последователей.

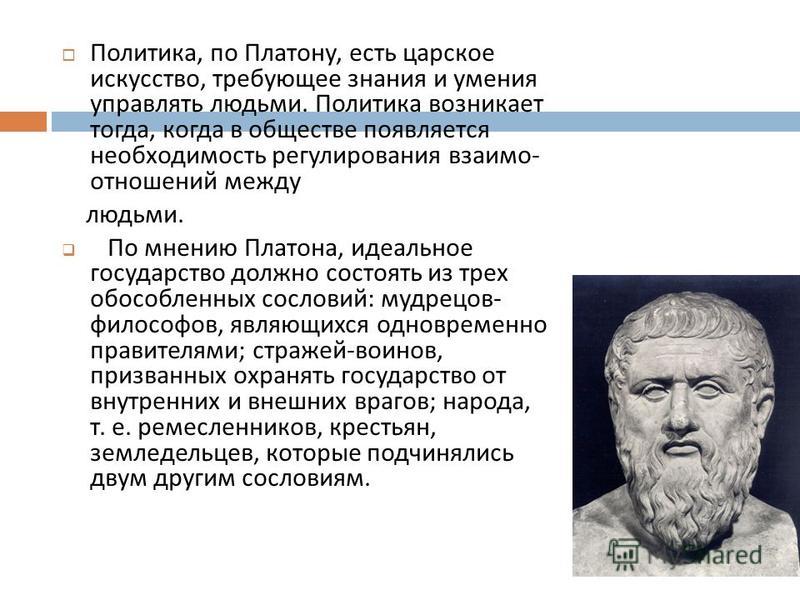 Защита не всегда то же самое, что и самозащита: ведь многие люди страхуют свои жизни, чтобы защитить не себя, а других, и точно так же они могут потребовать, чтобы государство прежде всего защищало других, и в гораздо меньшей степени или вовсе не защищало их самих. Основная мысль протекционизма такова: защитить слабых от запугивания со стороны сильных. Это требование выдвигали не только слабые, но часто и сильные. Поэтому ошибочно понимать это как требование себялюбия и считать его аморальным.
Защита не всегда то же самое, что и самозащита: ведь многие люди страхуют свои жизни, чтобы защитить не себя, а других, и точно так же они могут потребовать, чтобы государство прежде всего защищало других, и в гораздо меньшей степени или вовсе не защищало их самих. Основная мысль протекционизма такова: защитить слабых от запугивания со стороны сильных. Это требование выдвигали не только слабые, но часто и сильные. Поэтому ошибочно понимать это как требование себялюбия и считать его аморальным. Все это результат огромного влияния Платона.
Все это результат огромного влияния Платона. Конечно, такое представление нечестно, ведь единственная необходимая предпосылка рассматриваемой теории — это требование пресечь преступления или несправедливость.
Конечно, такое представление нечестно, ведь единственная необходимая предпосылка рассматриваемой теории — это требование пресечь преступления или несправедливость.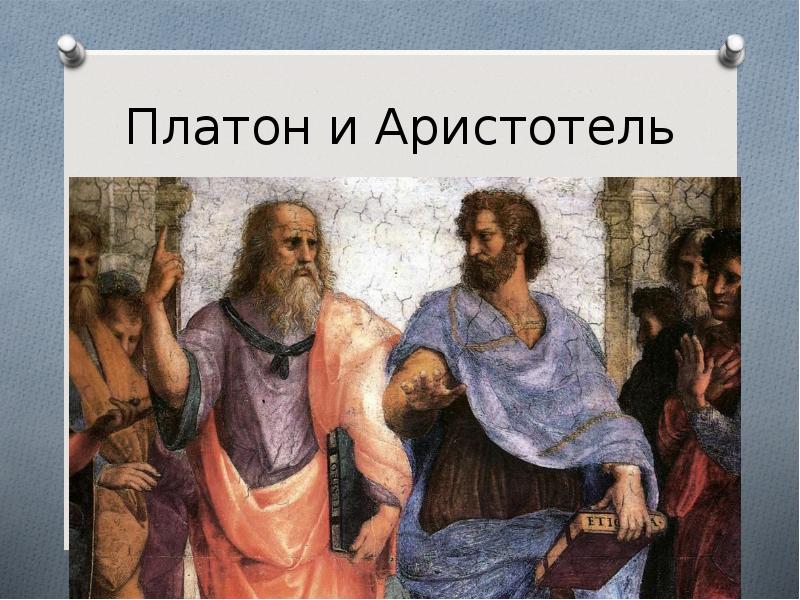
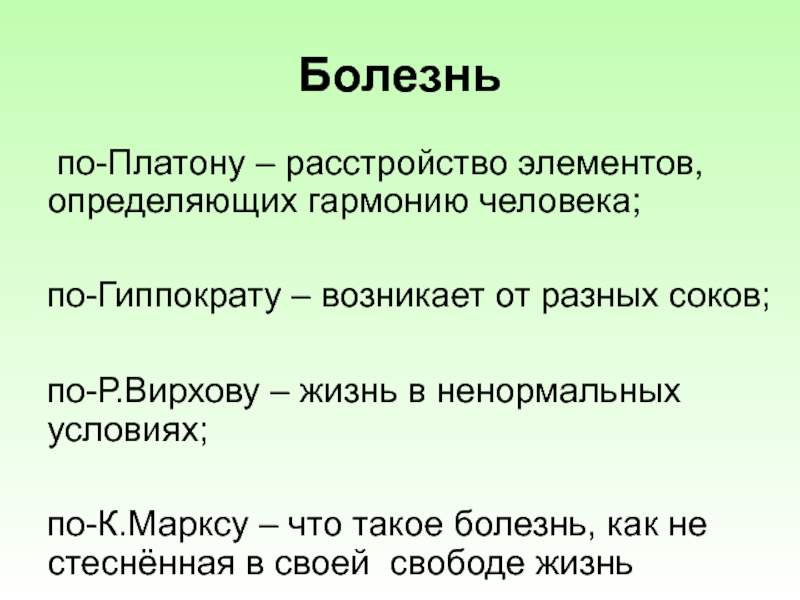 Даже упоминание с элементами шаржирования о «сильных» и «слабых», осознающих своё ничтожество, прекрасно вписывается в теорию протекционизма. Вполне вероятно, что в учении Ликофрона выдвигалось требование, чтобы государство защищало слабых, — требование, которому нельзя отказать в благородстве. (Надежда на то, что однажды оно будет исполнено, выражена в христианстве: «Агнец наследует землю».)
Даже упоминание с элементами шаржирования о «сильных» и «слабых», осознающих своё ничтожество, прекрасно вписывается в теорию протекционизма. Вполне вероятно, что в учении Ликофрона выдвигалось требование, чтобы государство защищало слабых, — требование, которому нельзя отказать в благородстве. (Надежда на то, что однажды оно будет исполнено, выражена в христианстве: «Агнец наследует землю».) (В «Горгии», несмотря на все индивидуалистские, эгалитаристские и протекционистские тенденции, высказываются и весьма антидемократические пристрастия. Объясняется это, по-видимому, тем, что, работая над «Горгием», Платон ещё не развил своих тоталитаристских теорий. Хотя он симпатизировал антидемократическим взглядам, влияние Сократа было ещё очень велико. Однако мне непонятно, как можно считать, что одновременно и «Горгий», и «Государство» дают верное представление о взглядах Сократа.)
(В «Горгии», несмотря на все индивидуалистские, эгалитаристские и протекционистские тенденции, высказываются и весьма антидемократические пристрастия. Объясняется это, по-видимому, тем, что, работая над «Горгием», Платон ещё не развил своих тоталитаристских теорий. Хотя он симпатизировал антидемократическим взглядам, влияние Сократа было ещё очень велико. Однако мне непонятно, как можно считать, что одновременно и «Горгий», и «Государство» дают верное представление о взглядах Сократа.) Отсюда взяло своё начало законодательство и взаимный договор. Установления закона и получили имя законных и справедливых — вот каково происхождение и сущность справедливости».
Отсюда взяло своё начало законодательство и взаимный договор. Установления закона и получили имя законных и справедливых — вот каково происхождение и сущность справедливости». В продолжении процитированного фрагмента Главкон очень подробно развивает якобы необходимые допущения или предпосылки протекционизма. Среди них он называет, например, взгляд, согласно которому причинять вред — «это всего лучше» 6.51, и справедливость устанавливается только потому, что многим не по силам совершать преступления, а отдельным гражданам преступная деятельность принесла бы большой доход. И «Сократ», то есть Платон, открыто подтверждает 6.52, что Главкон правильно понял обсуждаемую теорию. Таким путём Платону, по-видимому, удалось убедить большую часть своих читателей, и уж во всяком случае всех платоников, в том, что обсуждаемая протекционистская теория в точности совпадает с бесчестным и циничным себялюбием Фрасимаха 6.53, а также, что ещё важнее, в том, что все формы индивидуализма означают одно и то же, а именно — себялюбие. Однако он убедил в этом не только своих поклонников, но и своих противников, особенно приверженцев теории договора. Все — от Карнеада 6.54 до Гоббса — не только восприняли предложенное Платоном губительное историцистское истолкование этой теории, но и согласились с заверениями Платона о том, что в основе этой теории лежит этический нигилизм.
В продолжении процитированного фрагмента Главкон очень подробно развивает якобы необходимые допущения или предпосылки протекционизма. Среди них он называет, например, взгляд, согласно которому причинять вред — «это всего лучше» 6.51, и справедливость устанавливается только потому, что многим не по силам совершать преступления, а отдельным гражданам преступная деятельность принесла бы большой доход. И «Сократ», то есть Платон, открыто подтверждает 6.52, что Главкон правильно понял обсуждаемую теорию. Таким путём Платону, по-видимому, удалось убедить большую часть своих читателей, и уж во всяком случае всех платоников, в том, что обсуждаемая протекционистская теория в точности совпадает с бесчестным и циничным себялюбием Фрасимаха 6.53, а также, что ещё важнее, в том, что все формы индивидуализма означают одно и то же, а именно — себялюбие. Однако он убедил в этом не только своих поклонников, но и своих противников, особенно приверженцев теории договора. Все — от Карнеада 6.54 до Гоббса — не только восприняли предложенное Платоном губительное историцистское истолкование этой теории, но и согласились с заверениями Платона о том, что в основе этой теории лежит этический нигилизм.
 Платон хорошо знал, что эта теория не основана на себялюбии, ведь в «Горгии» он представил её не как тождественную нигилистической теории, из которой она «выведена» в «Государстве», а как противоположную ей.
Платон хорошо знал, что эта теория не основана на себялюбии, ведь в «Горгии» он представил её не как тождественную нигилистической теории, из которой она «выведена» в «Государстве», а как противоположную ей. В конечном счёте это утверждение основано на аргументе, в соответствии с которым справедливость полезна для могущества, здоровья и стабильности государства. А этот аргумент очень напоминает современное тоталитаристское определение: право — это всё, что полезно для могущества моей нации, моего класса или моей партии.
В конечном счёте это утверждение основано на аргументе, в соответствии с которым справедливость полезна для могущества, здоровья и стабильности государства. А этот аргумент очень напоминает современное тоталитаристское определение: право — это всё, что полезно для могущества моей нации, моего класса или моей партии. Связь, лишённая физического влечения. Говоря о «платонической любви», люди часто подразумевают чистые и светлые помыслы.
Связь, лишённая физического влечения. Говоря о «платонической любви», люди часто подразумевают чистые и светлые помыслы.


 Оттого наши их и бояться, потому что знают, что пример нужно брать с последних.
Оттого наши их и бояться, потому что знают, что пример нужно брать с последних. .. и главный герой уже вышагивает, как будто только что с него сойдя, мимолетно позволив поправить себе воротничок. Ну а дальше… зачем то слегка растянутый вертикально кадр, видимо для того, что бы все персонажи казались слегка моделями. Вставки с псевдопогоней и псевдоограблением, это должно было быть смешно? или круто? или надо было что то снять на пленку? Странно, но из двух почти независимых сюжетных линий больший интерес вызывает кавказская тема. Может быть потому, что у ее персонажей есть хоть какие то устойчивые характеры. А Платон — клоун, часто не смешной, и не грустный, и не рыжий, и не белый. Так о чем кино? Вроде бы уже сняли Глянец. И Пушкин написал своего Онегина. Только наш Евгений как то не тянет на на героя времени. И если когда то избранница Печорина, горная дикарка как то тянется к цивилизации, то наша Татьяна (якобы возлюбленная Платона) отправляется в прямо противоположном направлении. А может и прав был Жириновский, пора вводить многоженство?
.. и главный герой уже вышагивает, как будто только что с него сойдя, мимолетно позволив поправить себе воротничок. Ну а дальше… зачем то слегка растянутый вертикально кадр, видимо для того, что бы все персонажи казались слегка моделями. Вставки с псевдопогоней и псевдоограблением, это должно было быть смешно? или круто? или надо было что то снять на пленку? Странно, но из двух почти независимых сюжетных линий больший интерес вызывает кавказская тема. Может быть потому, что у ее персонажей есть хоть какие то устойчивые характеры. А Платон — клоун, часто не смешной, и не грустный, и не рыжий, и не белый. Так о чем кино? Вроде бы уже сняли Глянец. И Пушкин написал своего Онегина. Только наш Евгений как то не тянет на на героя времени. И если когда то избранница Печорина, горная дикарка как то тянется к цивилизации, то наша Татьяна (якобы возлюбленная Платона) отправляется в прямо противоположном направлении. А может и прав был Жириновский, пора вводить многоженство? Нет, есть парочку фильмов, перед которыми я снимаю шапку, но в общей массе.. Так вот. ‘Платон’ оставил меня без головного убора.
Нет, есть парочку фильмов, перед которыми я снимаю шапку, но в общей массе.. Так вот. ‘Платон’ оставил меня без головного убора. И мне бы хотелось увидеть его ещё в подобных ролях (а не Тимы Милана).
И мне бы хотелось увидеть его ещё в подобных ролях (а не Тимы Милана). Надо сказать, что начала и досмотрела до конца этот фильм я только из-за него. Мне кажется, резидент Comedy Club талантливее, чем выглядит на первый взгляд. Что касается его персонажа. Платон — циничный, хладнокровный, находчивый парень. Сказать, что у него нет ценностей было бы неверным, потому что они есть. Весь вопрос в том, что для большинства воспитанных людей они неприемлемы (и это к счастью!). У него есть своя философия, своя правда, которая превращает его в какую-никакую, но личность. Он умен и способен чувствовать. В любви разочарован и закрыт для нее.
Надо сказать, что начала и досмотрела до конца этот фильм я только из-за него. Мне кажется, резидент Comedy Club талантливее, чем выглядит на первый взгляд. Что касается его персонажа. Платон — циничный, хладнокровный, находчивый парень. Сказать, что у него нет ценностей было бы неверным, потому что они есть. Весь вопрос в том, что для большинства воспитанных людей они неприемлемы (и это к счастью!). У него есть своя философия, своя правда, которая превращает его в какую-никакую, но личность. Он умен и способен чувствовать. В любви разочарован и закрыт для нее.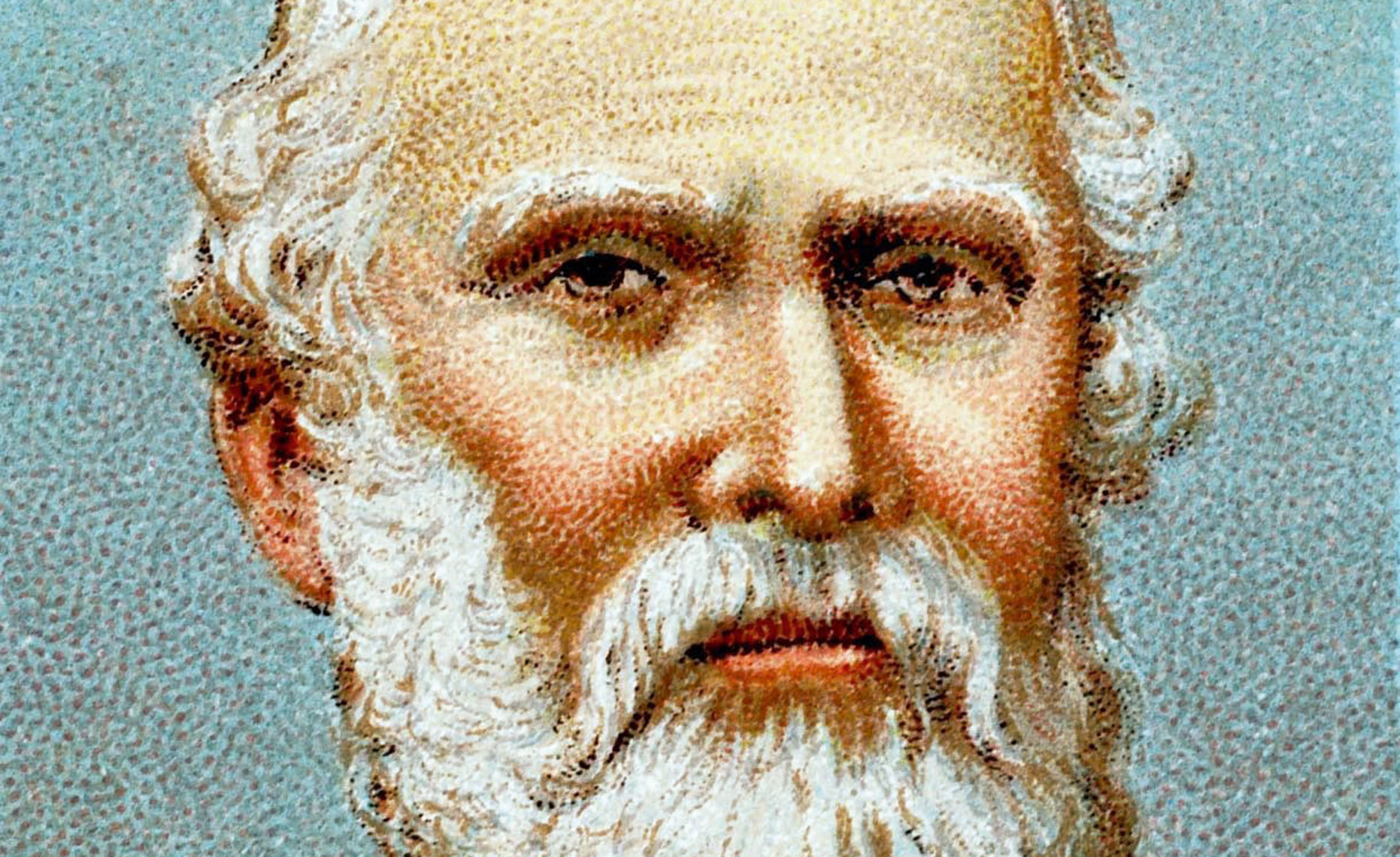 Это орел высокого полета (не комплимент, а констатация факта).
Это орел высокого полета (не комплимент, а констатация факта). Было интересно взглянуть, к какой же истории приведет нас картина, где в главной роли многим известный Павел Воля. Читаю драма, комедия, приступаю к просмотру и надеюсь, что фильм не слишком серьезный и не замороченный.
Было интересно взглянуть, к какой же истории приведет нас картина, где в главной роли многим известный Павел Воля. Читаю драма, комедия, приступаю к просмотру и надеюсь, что фильм не слишком серьезный и не замороченный. Картина естественно не относится к списку ‘обязательна к просмотру каждому’, но все-таки смысл в ней есть. Как уже говорилось ранее, есть главный герой и есть события. Вот он встречает любовь, то есть девушку по имени Люба, которая как мы думаем научит Платона уму разуму и они будут жить долго и счастливо. Но все это не интересно и скучно, поэтому мы окунаемся в истории, при просмотре которых думаешь, ну вот что-то должно произойти, но ничего так и не происходит. Мы понимаем, что наш главный герой влюблен, но так и хочется сказать: ‘Не верю!’. Итак, перед нами Москва, красивые девушки, деньги и чтобы выжить нужно крутиться, что Воля и демонстрирует. Но как же любовь?
Картина естественно не относится к списку ‘обязательна к просмотру каждому’, но все-таки смысл в ней есть. Как уже говорилось ранее, есть главный герой и есть события. Вот он встречает любовь, то есть девушку по имени Люба, которая как мы думаем научит Платона уму разуму и они будут жить долго и счастливо. Но все это не интересно и скучно, поэтому мы окунаемся в истории, при просмотре которых думаешь, ну вот что-то должно произойти, но ничего так и не происходит. Мы понимаем, что наш главный герой влюблен, но так и хочется сказать: ‘Не верю!’. Итак, перед нами Москва, красивые девушки, деньги и чтобы выжить нужно крутиться, что Воля и демонстрирует. Но как же любовь? Хотя потом вмешивается в историю Антона и Насти, а затем в еще одну. Романтического периода между главными героями не прослеживается, разве что момент, когда Платон выливает Любе вино на голову, но в современном мире никто не станет удивляться этому. Пусть лучше в фильме чего-то не хватает, чем будут лишние «зачем». Например, Настя и Антон? Лишь затем, чтобы Платон и Люба поспорили?
Хотя потом вмешивается в историю Антона и Насти, а затем в еще одну. Романтического периода между главными героями не прослеживается, разве что момент, когда Платон выливает Любе вино на голову, но в современном мире никто не станет удивляться этому. Пусть лучше в фильме чего-то не хватает, чем будут лишние «зачем». Например, Настя и Антон? Лишь затем, чтобы Платон и Люба поспорили?
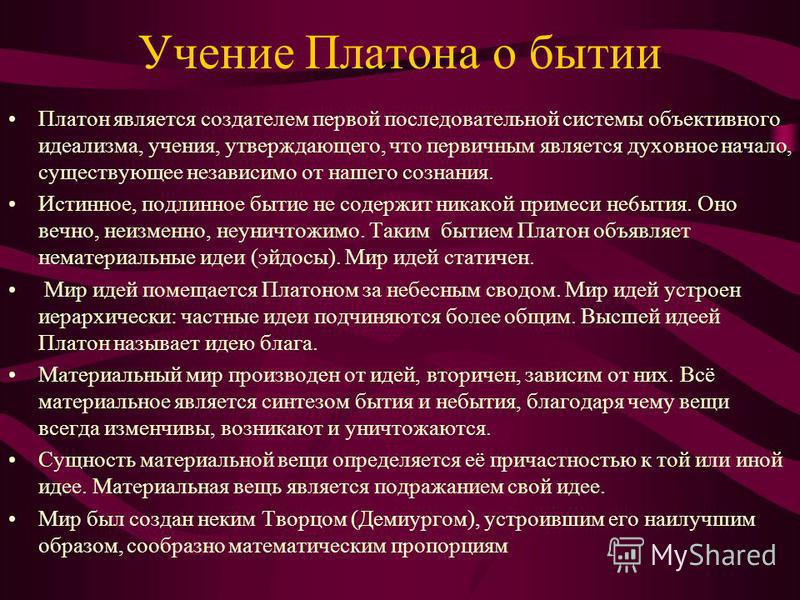
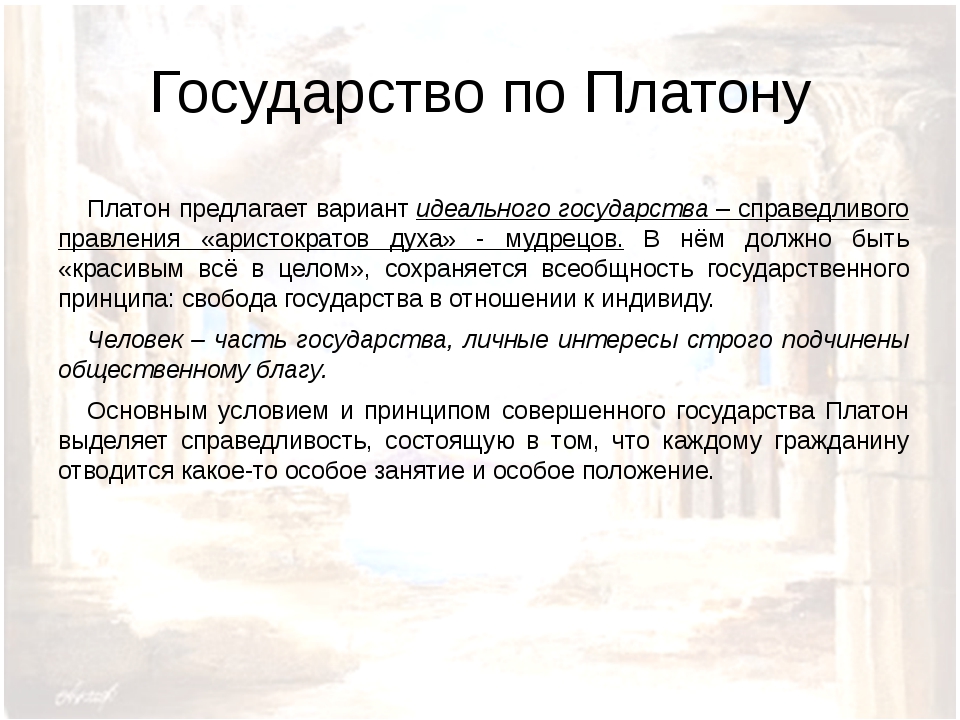 И реалистичнее. Что ни говори, но для таких как Платон всегда важнее внешность, а потом уже цепляющий внутренний мир. Нет, я не говорю что она страшная, но она не подходит, на мой взгляд для этой роли. А так мне лично неясно чем она его зацепила. Да и играла она как-то вяло, не хватило жизни..
И реалистичнее. Что ни говори, но для таких как Платон всегда важнее внешность, а потом уже цепляющий внутренний мир. Нет, я не говорю что она страшная, но она не подходит, на мой взгляд для этой роли. А так мне лично неясно чем она его зацепила. Да и играла она как-то вяло, не хватило жизни.. Ну возможно, это уже ближе к сегодняшней реальности.
Ну возможно, это уже ближе к сегодняшней реальности. Платону по силам буквально все. Купить, убить, забрать, обмануть, и даже влюбить в себя совершенно не преступную девушку, которую же благополучно сравнивает, простите, с половой тряпкой. Сделай то, сходи туда, отстань от меня. Он не верит в любовь и не верит в человеческие взаимоотношения. У него нет друзей и подруг, его окружают лишь толстосумы, вечно хотящие от него новой игрушки.
Платону по силам буквально все. Купить, убить, забрать, обмануть, и даже влюбить в себя совершенно не преступную девушку, которую же благополучно сравнивает, простите, с половой тряпкой. Сделай то, сходи туда, отстань от меня. Он не верит в любовь и не верит в человеческие взаимоотношения. У него нет друзей и подруг, его окружают лишь толстосумы, вечно хотящие от него новой игрушки.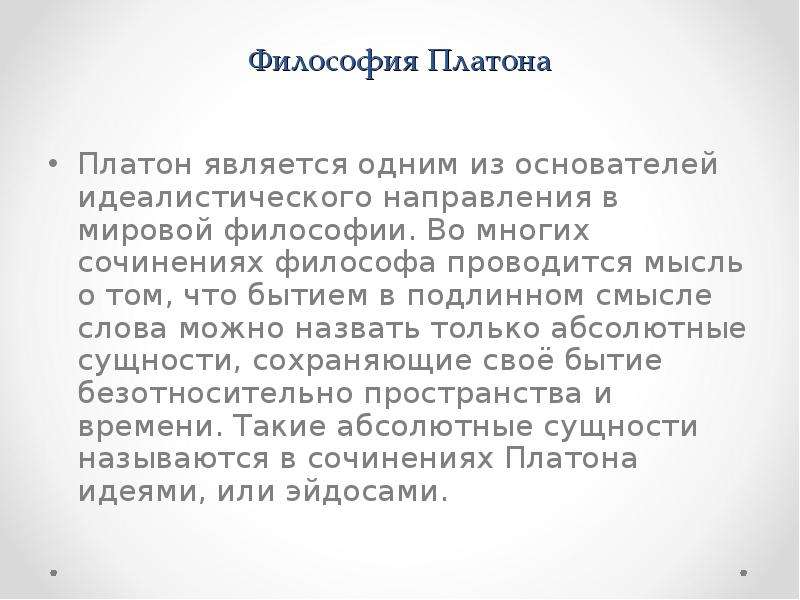
 Но чем больше отрицаешь привязанность к кому-либо, тем эта связь становится крепче. Вот и Платон, побоявшись признаться в своих чувствах предпочел оттолкнуть от себя женщину своей жизни, не подумав при этом, что портит жизнь и себе и ей. Прошло время, долгое время, когда он решился найти свою половину, но оказалось слишком поздно, этой самой половинке он уже был не нужен. Разозлившись, Платон уничтожает свою жизнь, жизнь Любы и жизнь Абдула, нынешнего мужа Любы.
Но чем больше отрицаешь привязанность к кому-либо, тем эта связь становится крепче. Вот и Платон, побоявшись признаться в своих чувствах предпочел оттолкнуть от себя женщину своей жизни, не подумав при этом, что портит жизнь и себе и ей. Прошло время, долгое время, когда он решился найти свою половину, но оказалось слишком поздно, этой самой половинке он уже был не нужен. Разозлившись, Платон уничтожает свою жизнь, жизнь Любы и жизнь Абдула, нынешнего мужа Любы. Но руки добрались только на недавно прошедших выходных.
Но руки добрались только на недавно прошедших выходных.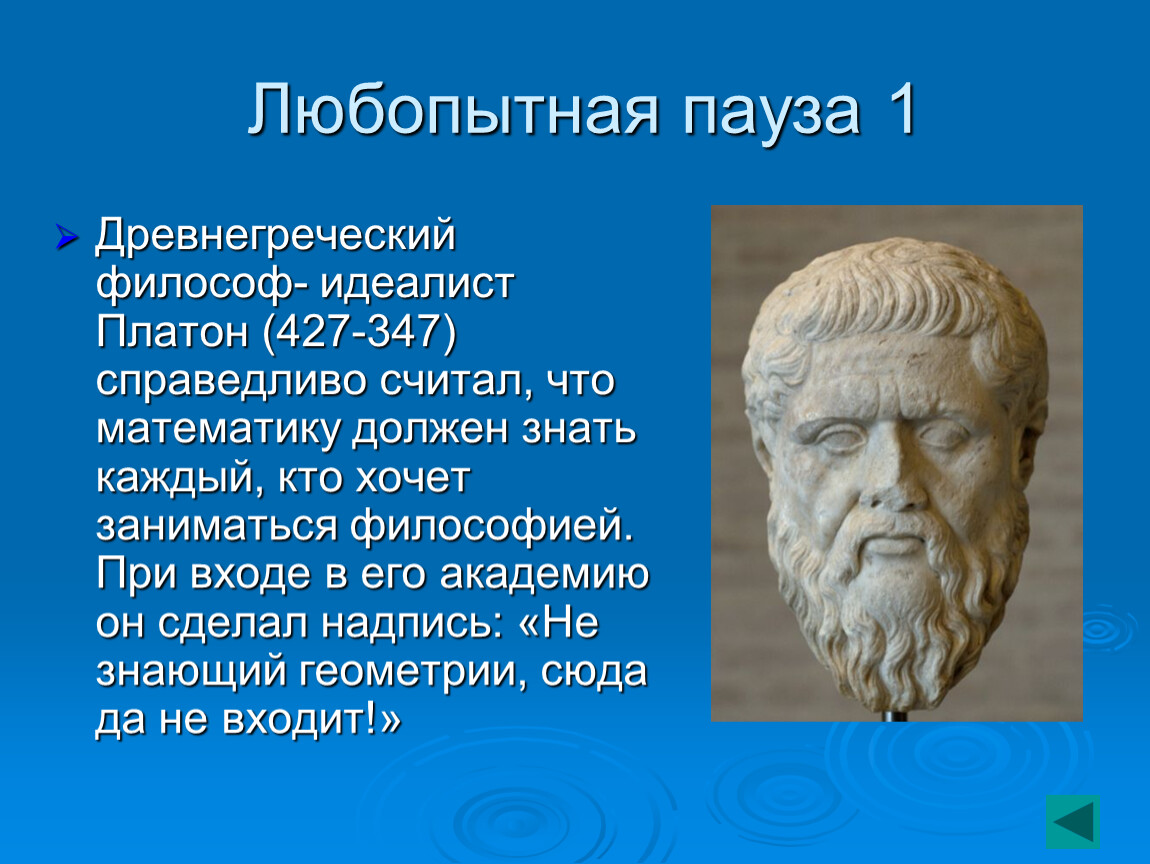
 Первый абсолютно случайно, отрывками, не вдумываясь, не проникаясь-он меня не зацепил. Но некоторое время спустя обстоятельства сложились так, что я посмотрела его от самого начала-до самого конца.
Первый абсолютно случайно, отрывками, не вдумываясь, не проникаясь-он меня не зацепил. Но некоторое время спустя обстоятельства сложились так, что я посмотрела его от самого начала-до самого конца.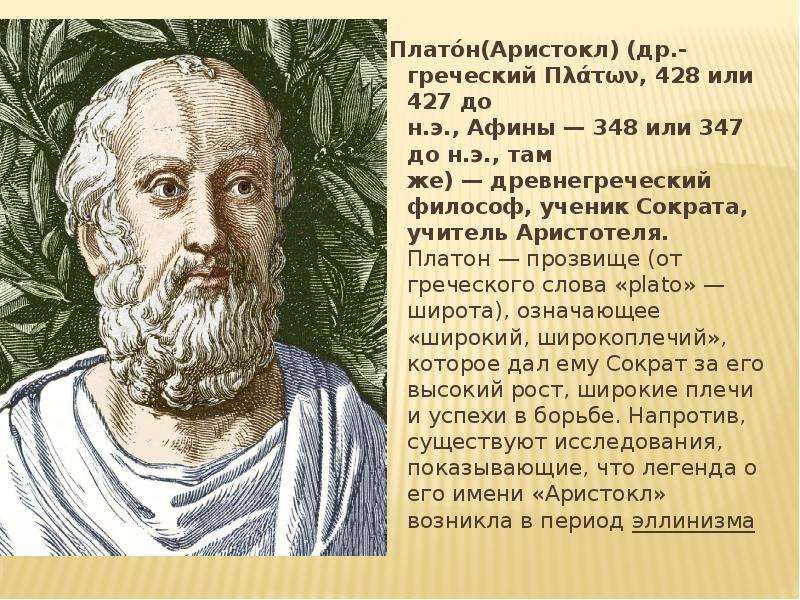 В частности, у стражников не должно быть частной и даже личной собственности. Столуются и живут они вместе, как во время военных походов. Необходимые припасы они получают от остальных граждан один раз в год за то, что охраняют их. Им не дозволяется пользоваться золотом и серебром, даже в качестве украшений. Дело в том, что обладание собственностью приводит к раздорам и разрушению единства стражей. Таким образом, специфический образ жизни способствует формированию чувства единства и сплоченности.
В частности, у стражников не должно быть частной и даже личной собственности. Столуются и живут они вместе, как во время военных походов. Необходимые припасы они получают от остальных граждан один раз в год за то, что охраняют их. Им не дозволяется пользоваться золотом и серебром, даже в качестве украшений. Дело в том, что обладание собственностью приводит к раздорам и разрушению единства стражей. Таким образом, специфический образ жизни способствует формированию чувства единства и сплоченности. Одновременно они должны переводить детей земледельцев и ремесленников, родившихся с необходимыми задатками, в сословие стражей. Платон подчеркивает, что успех в деле создания идеального государства во многом будет зависеть от того, насколько удастся распространить, внушить этот миф. Кроме того, важнейшее значение придается роли искусства в воспитании. Согласно Платону, в идеальном государстве разрешаются только такие произведения и даже жанры искусства, которые формируют необходимые качества. Предлагается даже пересмотреть все прежние мифы и произведения искусства и оставить из них только те, которые соответствуют указанным критериям.
Одновременно они должны переводить детей земледельцев и ремесленников, родившихся с необходимыми задатками, в сословие стражей. Платон подчеркивает, что успех в деле создания идеального государства во многом будет зависеть от того, насколько удастся распространить, внушить этот миф. Кроме того, важнейшее значение придается роли искусства в воспитании. Согласно Платону, в идеальном государстве разрешаются только такие произведения и даже жанры искусства, которые формируют необходимые качества. Предлагается даже пересмотреть все прежние мифы и произведения искусства и оставить из них только те, которые соответствуют указанным критериям.